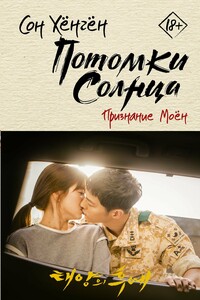Наш Современник, 2004 № 10 | страница 59
Апелляция к диалектическому методу Гегеля помогла Устрялову вписать революцию в ткань своих философских размышлений и обосновать идею необходимости, естественности и закономерности революции, когда столкновение русского национализма (тезис) и интернационального коммунизма (антитезис) закономерным образом выливаются в политику государственнического национал-большевизма (синтез): “Марксова борода по-своему... “переваривается” русской действительностью, логическая и психологическая пестрота революционной весны “утрясается”, приобретая цельный стиль и единое культурно-национальное устремление... народ приходит к осознанию новой своей государственности”13.
В связи с проблемой осмысления революции стоит упомянуть и идеи так часто цитируемого Устряловым французского консервативного мыслителя Жозефа де Местра. Перед де Местром на заре XIX столетия стояла схожая задача — необходимо было обосновать Французскую буржуазную революцию 1789 года, вписать её в контекст своих философских размышлений. Де Местр, исходя из религиозно-провиденциалистского восприятия исторического процесса, расценил факт революции как свидетельство прямого божественного вмешательства. Революция рассматривается французским мыслителем как божья кара провинившемуся человечеству. В восприятии Устрялова революция свободна от религиозного звучания, она является лишь частным проявлением всеобщего закона развития, несет в себе положительный, творческий заряд, позволяя обществу достичь более прогрессивной стадии развития. Русским мыслителем декларируется не только примирение с революцией, но и постулируется необходимость сотрудничества с ней. Он упрекает эмигрантскую интеллигенцию в узости мышления, в неспособности увидеть себя в революции и распознать революцию в себе — вскрыть не только “национальные истоки великого кризиса наших дней, его светлого и темного ликов”14, но и “познать себя”15. Именно в революционные эпохи, в моменты грандиозных мировоззренческих сломов перед интеллигенцией — образованнейшим слоем народа, “уцелевшим в революции и принявшим её, остро встает задача не политического уже, а духовного самоопределения”16.
Успехи СССР в послереволюционном экономическом строительстве и отстраивание здания российской государственности окрыляли Устрялова, убеждали его в правоте своих исходных тезисов, заставляли призвать всех русских патриотов “не бессмысленно бороться с новой Россией... а посильно содействовать её оздоровлению, честно идти навстречу “новому курсу” революционной власти, становящемуся жизненным, мощным и неотвратимым фактором воссоздания государства российского”17. Подтверждением теоретической позиции Устрялова стал взятый советским руководством курс на “построение социализма в одной стране”. Тактический принцип Ленина был превращён Сталиным в стратегическую идею развития советского государства и стал идеологическим обоснованием сталинской политики строительства социализма. Устрялов рассматривает данный лозунг как “особую, своеобразную, защитную теорию” и даже провозглашает идеал своеобразной советской автаркии, в соответствии с которым “СССР должен стать в известном смысле “самодостаточной, самодовлеющей страной” (“Hiс Rohdus, hiс salta!”). Более того, данный процесс, который русский публицист называет не иначе, как