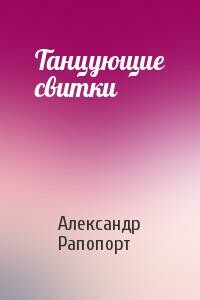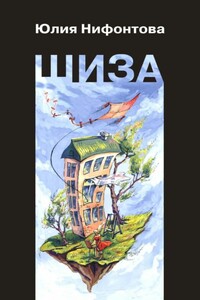Наш Современник, 2003 № 12 | страница 36
Вчера мы, с госпожой Акинфиевой во главе, ездили на вокзал встречать нашего милого князя-юбиляра, которого мы будем чествовать сегодня. Утром я прочел отчет об его разговоре по душам с императором Наполеоном. Это чистейшая вода, и любой разговор между двумя первыми попавшимися людьми мог бы оказать точно такое же воздействие и влияние на положение вопросов, ждущих своего разрешения, как этот мнимый политический диалог, честь которого почти исключительно принадлежала милейшему князю. Одним словом, это так же глупо, как и все остальное. — Поговаривают о том, что два министра, Милютин и Зеленый , подали в отставку, что объясняется совершенно естественно. Третье прошение об отставке было подано нашим послом в Константинополе, который считает себя чересчур скомпрометированным отсутствием всякого серьезного направления в нашей восточной политике. — Нет слов, чтобы надлежащим и достойным образом определить все эти подавляющие ничтожества, которые мятутся у власти.
Вот теперь новости для тебя. Твое исчезновение вызвало во мне как бы удвоенное чувство пустоты, от которого стали в особенности тоскливы часы пробуждения...
Вчера утром я долго беседовал наедине с госпожой Акинфиевой, а вечером был на Островах у княгини Н. Кочубей. Вот когда кстати было бы применить русскую пословицу: утро вечера мудренее .
Благодарю тебя за твою телеграфическую точность. Лишь бы последующие известия были такого же свойства! — Береги себя — это в данную минуту моя единственная забота.
Вот и опять пролетело полгода без писем между супругами. И хотя доверительные отношения между ними еще остались, но уж больно стала заметна какая-то сухость, деловитость. Теперь и стихи у Тютчева больше пишутся “на случай”, но среди них такой шедевр, как “Умом Россию не понять...” Есть среди таких стихотворений и прекрасные патриотические, например “Ты долго ль будешь за туманом...”. В письмах поэта уже явно проскальзывает мысль о возможности пересмотра в пользу России Парижского трактата. Эту мысль он сможет внушить и Горчакову, и это, скорее всего, станет потом решительным шагом канцлера по возвращению своей родине Черного моря. Теперь, к сожалению, новая правительственная акция по поводу перлюстрации писем заставляет поэта, слишком открытого в них, умерить свою страсть к эпистолярному жанру. Это скажется и на его письмах к жене.
Интересна в этом случае характеристика мужа женой, как никто другой понимающей все его душевные порывы. В феврале 1867 года Эрнестина Федоровна писала, в частности, брату Карлу, по-прежнему не терявшему надежду на совместное житье с четой Тютчевых за границей: “В ответ скажу вам, что в глазах высокопоставленных и влиятельных друзей моего мужа одним из привлекательнейших его качеств всегда являлось то, что он их ни о чем не просил, и если бы сейчас он случайно изменил этому принципу, который есть не что иное, как прирожденная черта его характера, он ничего не выиграл бы в материальном отношении по сравнению с любым другим, но зато с точки зрения житейской для него значительно поубавилось бы приятности, которой он наслаждается в своей независимости. К тому же мой муж не может более жить вне России; главное устремление его ума и главная страсть его души — повседневное наблюдение над развитием умственной деятельности, которая разворачивается на его родине. В самом деле, деятельность эта такова, что может всецело завладеть вниманием пылкого патриота. Не знаю даже, согласится ли он когда-нибудь совершить хотя бы кратковременное путешествие за границу, настолько тягостно ему воспоминание о последнем пребывании его вне России, так сильна у него была тогда тоска по родине и так тяготило его сознание своей оторванности от нее...” Но как бы там ни было, но и на это лето они расстались — Эрнестина Федоровна уехала в Овстуг вместе с Бири-левыми, Федор Иванович остался в Петербурге, все время чувствуя свое физическое и нравственное недомогание.