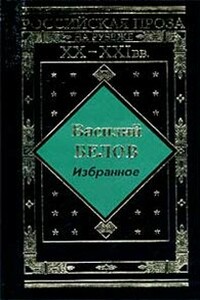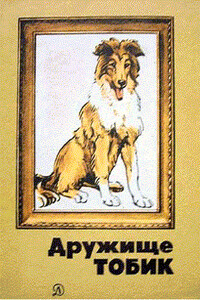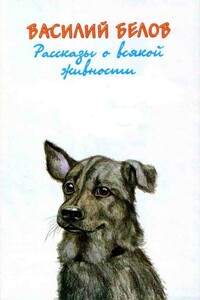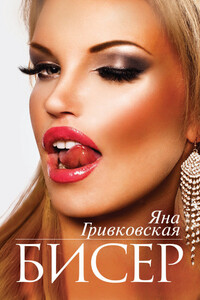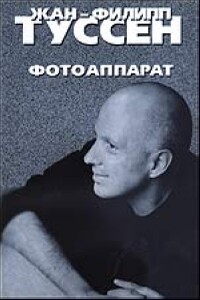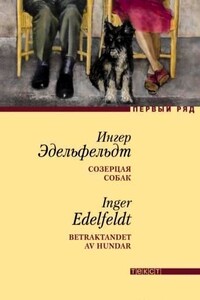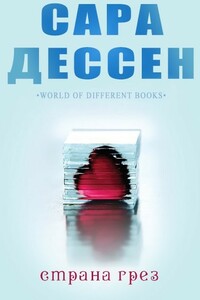Наш Современник, 2002 № 12 | страница 49
Исихазм основывается на ощущении верующего человека, которое он испытывает при внезапном более близком, чем в обыденной жизни, присутствии Бога. На том ощущении, которое испытали апостолы-фавориты в миг Преображения Господня на горе Фаворе. Современники Рублева знали о неизъяснимом блаженстве паломников, побывавших при Гробе Господнем в миг сошествия Благодатного Огня в Великую Субботу перед Пасхой. Именно такое блаженство должен испытывать изограф, когда не он сам, но Господь Бог водит его кистью, создавая икону. И для достижения такого Божьего избранничества необходимы духовные подвиги.
С греческого языка слово “исихазм” переводится как “безмолвничество”. Вспомним обет молчания Андрея Рублева. Но это не просто молчание ради того, чтобы не говорить глупостей. В исихазме молчание рассматривается как миг душевного блаженства при виде Божьего света и святости. Что бы ни происходило вокруг — во всем величие Божьего замысла. Безмолвное предстояние и торжественное созерцание Божественной сущности — в этом и состоит чудо Андрея, несравнимо более величественное, нежели в фильме Тарковского, по которому многие наши современники склонны судить об иконописце.
На икону Рублева можно взирать ровно столько, сколько хватит сил стоять почти не дыша.
Во времена Дионисия не было уже такого исихазма, как при Сергии Радонежском и Андрее Рублеве. Сам Дионисий был исихастом более по традиции, нежели по законам своего творчества. Другая эпоха истории — эпоха действий и смелых поступков, эпоха достижения независимости — брала свое и в изобразительном искусстве.
Знаменитое Дионисиево Распятие из Павло-Обнорского монастыря воплощает идеалы исихазма в главном образе распятого Спасителя, величественно застывшего на кресте, уже превращаясь в Небо. Он уже не Сын Человеческий, а та спелая виноградная лоза, с которой Он сам себя сравнивает в Евангелии. Он — как растянутая на древке хоругвь, наполненная тугим и свежим, весенним, пасхальным ветром.
Но все, что окружает крест и распятого на нем Христа, полно движения или замерло на миг, готовое излиться в действие. Еще мгновенье — и Богоматерь, быть может, упадет на руки жен-мироносиц, апостол Иоанн припадет к ногам Спасителя, а сотник Лонгин схватит свое копье.
Нечто подобное смог создать в позднейшие времена Суриков. В его картине “Христос, исцеляющий слепорожденного” до глубины души поражает зрителя резкий контраст между божественно спокойным, поистине небесным Христом и другими персонажами картины — слепорожденным, прозревшие глаза которого буквально кричат от восторга и ужаса, и теми, кто стоит у Христа за левым плечом, недоверчивыми, сварливыми, недовольными и безбожными...