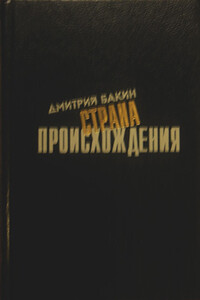Наш Современник, 2002 № 06 | страница 12
... И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука...
Да, это таким, как Елизавета Григорьевна, посвящались блоковские слова. Чему она нас учила? Да всему. Как ходить, как вставать, как садиться, как носить костюм, как здороваться, как целовать дамам ручки, как сидеть за столом... Как есть, пить, обращаться со столовыми приборами, как держать нож, вилку и как держать при этом руки, спину, голову. Да разве все перескажешь?
Научились ли мы всем этим премудростям? Вряд ли. Так, кое-что состригли, в основном — для будущей профессии. Несколько листиков с верхушек чайных кустов.
— Вы можете есть даже руками, — говорила она, видя, как мы вконец путаемся в тонкостях этикета, — главное, чтобы это было красиво. И чтобы вы сами при этом чувствовали внутреннюю правоту и свободу.
Внутренняя правота и свобода... Да, это, пожалуй, и есть главное в нашей профессии: чувство внутренней свободы! Притом свободы прилюдной, когда ты постоянно находишься в окружении огромного количества людей: зрителей и партнеров. “У себя в комнате, при зеркале, каждый актер — гений! — говорят у нас. — А вот на сцене!..” На сцене человек с врожденным ощущением свободы такая же редкость, как чистое железо, самородная медь или алмаз чистой воды. Это высшее состояние человеческого духа, то, что называется природным артистизмом или, проще говоря, талантом.
Усилия педагогов нашей Студии, мне думается, и были направлены на выявление, высвобождение в каждом из нас этого редкого дара.
“Общага”
Заранее оговорюсь: я не люблю этого словообразования —“общага”. Есть в этом что-то пренебрежительное. Эдакое “облокачивание” папенькиных сынков из номенклатурных квартир, позволявших себе “заглядывать на огонек” к друзьям, живущим в общежитии, чтобы распить бутылку водки или поухаживать за хорошенькой студенткой. Возможно, это мое пуританское брюзжание не более как отголосок бедного, сурового военно-послевоенного времени, когда какой-нибудь шалаш, на малое время укрывший тебя от непогоды, становился в цене равным если не дворцу, то уж флигелю для прислуги, во всяком случае.
Когда в 71-м году, уже взрослым, тридцатилетним женатым человеком, отцом, заслуженным артистом, я впервые получил по-настоящему отдельную двухкомнатную квартиру на Суворовском бульваре, я вдруг задумался и спросил себя: да, а сколько же за весь этот жизненный отрезок времени я прожил в общежитиях? И получилось: двадцать семь лет! Мое поколение росло, мужало, училось любить страну в общежитиях. Они назывались по-разному: собственно, общежития (техникумов, институтов), интернаты для молодых специалистов, николаевские казармы, бараки, комната в старом, коридорной системы, флигеле, но суть была одна: рядом с твоей койкой всегда стояла койка другого человека. А твоей личной территорией был фибровый чемодан под этой койкой и тумбочка с дверцей и верхним выдвижным ящичком.