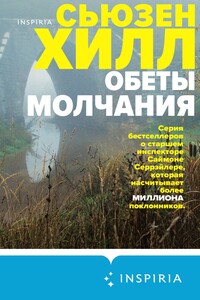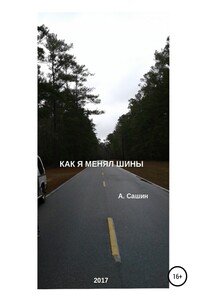Самервил | страница 45
И опять он исчез из моей жизни и вот - вынырнул в Венеции, с обворожительной улыбкой склоняясь к капеллану и ловя каждое его слово. Простясь с духовной особой, он заметил меня, слегка вздернул брови и поднял руку. Он не очень удивился и - как типично! - ко мне не подошел, а стал ждать, когда я сам подойду.
- А я и не знал, что ты набожный, Осси.
- Да нет, что ты, милый, ничего подобного, просто, между нами, это полезно. Хоть знаешь, что они по-английски будут говорить.
Он взял меня под локоть и быстро увел в сторону Академии.
- Купи мне аперитив, - сказал он. - Только не здесь. Спрятаться хочется, сам понимаешь.
Я, признаться, не понимал, а хотел бы понять. Я сказал:
- Ты, по-моему, не удивляешься, что меня встретил?
- Ах, милый ты мой, в Венеции всегда на кого-нибудь наткнешься, ты себе просто не представляешь, а мы-то с тобой вообще вечно сваливаемся друг на друга как снег на голову.
Наверное, он был прав, и, кажется, сам я тоже не очень поразился. Зато я поразился, как следует его рассмотрев и вспомнив, как он выглядел накануне на мосту Риальто. Странно, что я вообще его узнал.
Средних лет - он выглядел стариком. Волосы - белые, как лунь, и еще длиннее прежнего - падали на воротник и болтались по лицу, по паутинке красных прожилок. Руки, когда-то тонкие, длиннопалые, изящные, усохли, и суставы распухли от подагры. Но больше всего меня смутила его одежда, это она в основном создавала впечатление запущенности и благородного упадка. Серые брюки ужасно висели на нем и были ему явно не по размеру, а черный бархатный пиджак совершенно проносился на манжетах и вообще предназначался не для улицы, а для театра. Рубашка была клетчатая, мятая и грязная, и к ней - желтовато-белый шелковый галстук. Я разглядывал его, сидя с ним в кафе на Кампо Сан-Барнабо. Солнце светило на длинные волосы, на жалкие, нелепые одежки, будто на свет божий вылез клоун или сценический бродяга. Он, конечно, был нездоров - бледен, как папиросная бумага, и с трудом удерживал стакан кампари в дрожащей руке. И тут во мне поднялась страшная жалость к Осси, вызванная, в общем, любовью, - он же мой друг, мой давний друг, гордый, неудалый, веселый горемыка, уклончивый и блудный, несравненный.
Мне снова вспомнилось, как он тогда сидел на ступеньках моста Риальто. Он заводил трех или четырех оловянных обезьянок, вонзал им в спины ключ, поворачивал, и они дергались и вертели, вертели педали велосипедов. Ноги прохожих чуть их не задевали, грозя вот-вот раздавить, но мало кто останавливался, а не покупал никто.