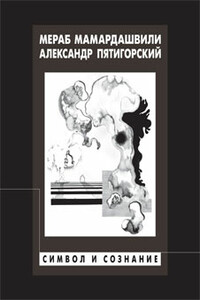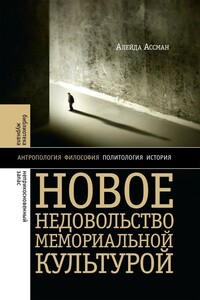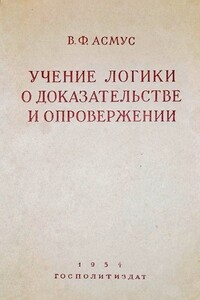Как я понимаю философию | страница 59
В рамках этих посылок я и выскажу то, что хотел сказать о предмете обсуждения. Искусство мне кажется уже в архаических основаниях сознания данным «местом», органом такого поиска, воображаемым пространством очень сильно организованных предметных структур, несущих в себе одновременно большую избыточность и неопределенность (или переопределенность), пространством, в котором или через которое происходит реконструкция и воспроизводство человеческого феномена на непрерывно сменяющемся психобиологическом материале природных существ. Пока я слушал дискуссию, у меня перед сознанием навязчиво всплывало одно воспоминание детства: дело происходит в грузинской горной деревне, где родился отец и где я часто бывал, там на похоронах плачут профессиональные плакальщицы, как ударами кнута взбивая чувствительность и приводя человека в психически ненормальное состояние, близкое к экстатическому. Они профессионалы и, естественно, не испытывают тех же эмоций, что и близкие умершего, но тем успешнее выполняют форму ритуального плача или пения. Юношей я не мог понять: зачем это? Ведь они притворяются! А позже, как мне показалось, понял: психические состояния как таковые («искренние чувства», «горе» и т. п.) не могут сохраняться в одной и той же интенсивности, рассеиваются, сменяются в дурной бесконечности, пропадают бесследно и не могут сами по себе, своим сиюминутным дискретным, конкретным содержанием служить основанием для явлений памяти, продуктивного переживания, человеческой связи, общения. Почему, собственно, и как можно помнить умершего, переживать человеческоечувство? Всплакнул, а потом рассеялось, забыл! Дело в том, что естественно забыть, а помнить — искусственно. Искусственно в смысле культуры и самих основ нашей сознательной жизни, в данном случае — в смысле необходимости возникновения и существования сильных форм или структур художественного сознания, эффекты собственной «работы» которых откладываются конституцией чего-то в природном материале, который лишь потенциально является человеческим. Своей организацией они вводят психического природного индивида в человеческое, в преемственность и постоянство памяти, в привязанности и связи, и это важно, потому что в природе не задан, не «закодирован», не существует естественный, само собой действующий механизм воспроизводства и реализации специфически человеческих отношений, желаний, эмоций, поступков, целей, форм и т. д. — короче, самого этого феномена как такового. Реактивность нашей психики — это одно, а ее проработка человеком в преднаходимых им общественных культурных предметах (предметы искусства лишь частный их случай) — другое. Именно последняя конститутивна для самого бытия того человеческого чувства, которое в приводимом примере выражалось плачем. Специальные продукты искусства — это как бы приставки к нам, через которые мы в себе воспроизводим человека. И, может быть, искусство делает это как раз избыточностью и неопределенностью в своих структурах (я говорил выше о возможном именно человеке), приводя в действие прежде всего обязательность и силу формы, без предположения знания и поучения о том, каков мир, как устроено общество, каковы сцепления и связи мироздания. Повторяю, в формах искусства мы имеем дело с обязательностью сильно организованной формы, следование которой обеспечивает воспроизводство состояний при неполном знании ситуации или вообще невозможности ее аналитически представить.