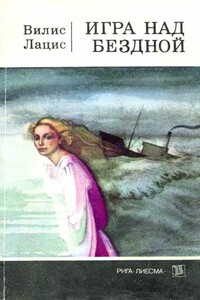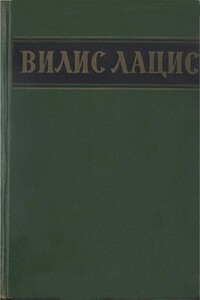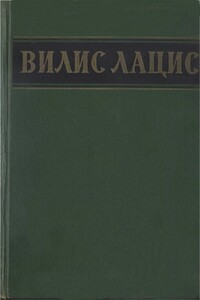Семья Зитаров. Том 1 | страница 40
— Ты, Ингус, как будто уже не маленький, — насмешливо проговорил он. — Ну скажи, кто же моется, не засучив рукава? Смотри, обшлага намокли чуть не до локтя. Сейчас же закатай рукава!
Тон, которым это было сказано, не допускал возражений. Ингус расстегнул пуговицы обшлагов и поднял их на вершок, считая, что этого будет достаточно, но отец не унимался:
— Выше, парень, до самых локтей! Ну, ну, не канителься!
— У меня мокрые руки, боюсь замочить рубашку.
— Она у тебя и без того мокрая.
Ингус, вспыхнув, засучил рукава, и все разом открылось. С татуировки слезала третья кожа, и именно в этой стадии рисунок был особенно ярким и выпуклым, словно пестрый цветок.
— Так вот оно что! — покачал головой отец. — Теперь понятно, почему ты закрывал руки.
Схватив двумя пальцами сына за ухо, капитан слегка потрепал его.
— Погоди, голубчик, мы с тобой еще поговорим на эту тему, — произнес он и ушел, оставив сына в самом мрачном настроении.
У входа в каюту он еще раз обернулся и, погрозив Ингусу пальцем, спустился по трапу. Но как только Зитар очутился один, морщины на его лбу разгладились, и он тихо усмехнулся: «Мальчишка обещает быть настоящим мужчиной. Своенравный, настойчивый. Разве я был иным?..»
Все время, пока «Дзинтарс» в Кардиффе выгружал лес и получал новый груз, Ингус ждал объяснения с отцом. Но оно не состоялось. Капитан Зитар забыл, видимо, об угрозах, а может быть, его отвлекли более серьезные дела.
Из Кардиффа «Дзинтарс» с грузом угля направился в северную Испанию, в Бильбао. В Бристольском заливе пошел дождь и лил всю неделю, сопутствуя судну до Ла-Манша. Ночи стояли темные, непроглядно мрачные. Намокшие паруса тяжело хлопали под порывами ветра. Рулевой не в состоянии был даже разглядеть бизань-мачту и, несмотря на непромокаемые сапоги и парусиновую одежду, промокал до нитки. Из Атлантики к берегу катились такие гигантские волны, что «Дзинтарс», нырнув между ними, скрывался из виду со всеми мачтами. Ветер все усиливался. В Бискайском заливе их встретил один из тех штормов, которые опасны даже для самых больших пароходов. Начиная с первых же дней пути, у Яна Силземниека возобновились приступы морской болезни. На этот раз она проявилась в более тяжелой форме. Вероятно, здесь действовало и самовнушение: вспоминая недавние страдания в Балтийском море, парень со страхом смотрел на океанские просторы, и первая незначительная качка вызвала тошноту; это и определило все дальнейшее. Стоило лишь начаться шторму, как Ян терял аппетит, ходил бледный, отплевывался и часто куда-то исчезал. Жалкий, тощий, он почти ничего не ел, чувствовал, что теряет с каждым днем силы, и если еще кое-как ходил и поднимал ручку насоса, то делал это насильно — было стыдно товарищей.