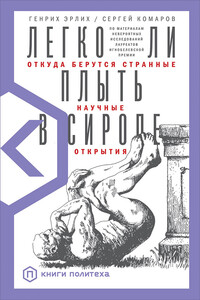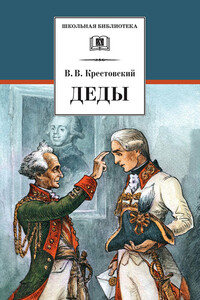Царь Борис, прозваньем Годунов | страница 107
В который раз просматривал я синодики — не забыли ли кого-нибудь. У некоторых имен останавливался, вспоминал хорошо знакомого мне человека, молился про себя о том, чтобы нашла душа его успокоение в кущах райских. Так дошел я до Курбских, до жены и сына князя Андрея. Почему попали они в список скорбный? Ведь своей смертью умерли, пусть и в узилище. И Иван к смерти их никакого касательства не имел, хотя бы по молодости своей. С другой стороны, справедливо внесли их в этот список, ибо они, несомненно, жертвы, жертвы времени и обстоятельств. Не случись того досадного недоразумения, была бы Евдокия сейчас жива, а младший князь Андрей воительствовал бы по примеру отца. Сколько ему было бы? Тридцать, хороший возраст. Был бы уже вторым воеводой и готовился бы принять у отца бразды управления полком правой руки.
Тут мысли мои перекинулись на старшего Курбского: как он там, в Польше? и увидимся ли когда-нибудь? и почему он не вернулся? Вновь вспомнил я события давнишние, как донеслась до меня весть невероятная о побеге Курбского, как ум мой и сердце отказывались поверить этому, но смирился ум перед уликами, искусно представленными, а сердце — нет, не исторгло предателя, а омертвело в той своей части, которую занимал друг давний. А потом была встреча нечаянная во время нашего с княгинюшкой бега по странам европейским, и в разговорах долгих разъяснилось хитросплетение случайностей, воспрепятствовавших своевременному возвращению Курбского. И то, что мыслил он тогда только о благе державы, и стремился остановить войну братоубийственную, и хотел не бунта, не отстранения молодого царя Ивана, а лишь удаления Захарьиных со всей их кликой и восстановления правления боярского, каким оно было во времена Избранной рады, но Захарьины воспользовались его задержкой на переговорах с гетманом литовским и представили все бегством позорным и предательством презренным. Ум мой принимал все эти объяснения, но омертвелое сердце не шевелилось. Видно, чувствовал это князь Андрей, при прощании нашем на границе польской он не рискнул обнять меня, каку нас заведено было в годы юности, лишь протянул руку, но и ее я отверг, не заметил, не пожелал заметить, отвернулся и помчался прочь. Не было мне дела до Захарьиных, да и о державе, честно говоря, я тогда не думал, я видел лишь то, что Курбский выступил против племянника моего, единственного и любимого. Пусть ноги мои бежали от него, спасая честь княгинюшкину и мою голову, но сердцем я был по-прежнему с Иваном, желал ему только добра и победы над всеми врагами.