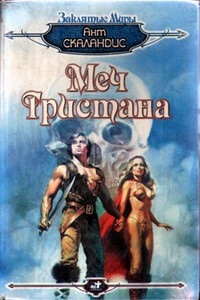Катализ | страница 143
— Как вы со мной разговариваете, Брусилов? — багровел Папа Монзано.
— Я с вами серьезно разговариваю, — отвечал я, чувствуя за собой реальную и громадную силу. — Здесь, в Пансионате, я делаю все, что от меня требуется, но от своих Условий я не отступлюсь. И, если вы арестуете хоть кого-то из моих родных и знакомых, я буду считать это нарушением Условия.
— Мальчишка! — восклицал Папа Монзано.
— Вы хотите сказать, — истолковывал я его реплику, — что об аресте я не узнаю? Ошибаетесь! Не вечно же нам с вами сидеть под этой крышей. Рано или поздно, я узнаю обо всем, и смею полагать, у меня еще будет возможность поквитаться с вами.
Разумеется, говорить такое-было уж слишком. Но — что поделать — я боялся за Светку. И за родителей тоже боялся. И летел вперед, закусив удила:
— И если вы полагаете, что меня можно убить и на этом поставить точку, вы тоже заблуждаетесь. Чтобы отдать приказ сибрам, мне хватит и микросекунды, и, будьте покойны, я сумею сделать это даже во сне.
А Папа Монзано вдруг успокаивался, вдруг словно бы понимал, кто есть кто. Быть может, сумев заглянуть далеко вперед, он видел себя моим подчиненным, и уж, конечно, не самым последним в ряду подчиненных великого Брусилова, и он внезапно менял гнев на милость и говорил начальственно и снисходительно, как бы спеша насладиться последними крохами власти надо мной:
— Я вас понял, Брусилов. Идите.
Да, умнейший, хитрейший Папа Монзано умел быть не только рассчетливым и строгим, но и чутким, покладистым и даже свойским. С него вдруг слетала всякая шелуха официальности, казенности, диктаторства, и перед вами оказывался вдруг просто усталый и глубоко несчастный человек, на которого внезапно свалилась ответственность столь огромная, что нести ее не только не хотел, но и не мог, наверное.
А третьим и, быть может, главным нашим другом-врагом был человек, готовый в отличие от директора взвалить на свои плечи весь груз ответственности не только за свои поступки, но и за наши, а также — Папы Монзано, спецслужб, правительства и всех настоящих и будущих представителей мировой сибрологии. Академик Иван Евгеньевич Угрюмов, выдающийся геронтолог и нейрохирург тридцати семи годков от роду, был патологически ответственным человеком. Открывшиеся вдруг необозримые горизонты науки приводили его в восторг, а ни с чем не сравнимое ощущение подрагивающего под пальцами штурвального колеса истории пьянило и окрыляло. При этом академик оставался необычайно скуп на внешние проявления своих чувств, и никто никогда не видел его улыбки. Такое уникальное соответствие собственной фамилии привело к тому, что буквально все звали его не Угрюмов, а Угрюмый. Насупленные брови, неподвижный стальной взгляд, крючковатый нос, плотно сжатый рот с уголками губ, чуть загнутыми книзу, а внутри — клокочущая радость, о которой мы знали лишь благодаря тому, что часто разговаривали с академиком.