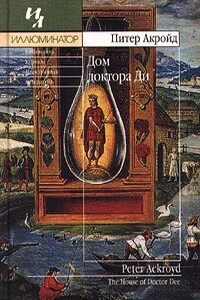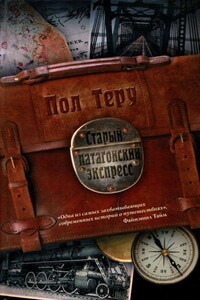Моя другая жизнь | страница 21
Он стоял у окна и, навострив ухо, прислушивался к крикам и смеху, доносившимся из африканской деревни вместе с резким барабанным боем.
— А как попали в Мойо вы? — поинтересовался я.
— Меня послали, — сурово ответил отец Тушет. «Послали» звучало как «сослали», в наказание.
— Ему очень повезло, — подал голос отец де Восс. Похоже, услышав ноту печали в словах отца Тушета, настоятель спешил его приободрить.
— А я просто счастлив, что приехал к вам, — сказал я искренне и почувствовал, что все они по-своему рады гостю. Моя же улыбка выдала усталость, меня разморило от долгого путешествия, от горячей еды во влажной духоте кухни и, главное, от черного жара ночи, что висела на окнах вместо занавесок.
— А Пол уже знает, где его комната? — заметив, что я устал, спросил отец де Восс.
Я пожелал всем доброй ночи, и Симон, со свечой на блюдце, повел меня по длинному коридору.
— Хорошее место, — произнес я.
— Да.
— Но люди болеют.
— Здесь их лечат, — возразил Симон. — Поэтому здесь хорошее место.
В комнате он поставил свечу и начал открывать ставни.
— В деревнях… — он имел в виду не эту, а другие деревни, — люди тоже болеют, да так и мрут.
Когда он скрылся в темноте, я сразу лег на жесткую, пахнущую пылью постель; по стенам колыхались тени от свечки, словно в средневековом замке — таинственно и жутко.
Разумеется, я начитался Кафки. Но мои фантазии питались не только Кафкой. В них слились и день, проведенный в поезде, и зной, и желтая, иссохшая пустошь, и глухая ночь, и запах нищеты и болезни.
Наутро все было иначе. Африка кажется зачарованной лишь в прохладной темноте. А при дневном свете она знойная и безжалостная. Деревья стояли теперь истонченные, почти прозрачные и вовсе не отбрасывали тени.
Солнечный свет в Мойо был резче, чем на юге страны. Может, отражался, удваивался в близком отсюда озере? Но до озера все-таки двадцать миль. А может, все оттого, что земля тут плоская, как тарелка? И облака высокие, и кустарник редкий? Или просто время года такое? Как бы то ни было, листья в этих краях сверкали, камни сияли, а земля и небеса раскалялись добела. И все вокруг делалось от этого голым.
Свет выставлял напоказ и испепелял все, вплоть до тени. Это было даже не солнце, жаркое и ясное, а свирепый свет Африки, который раздувал небо вширь и молотил по земле, точно по барабану. Так, грохоча, ввинтился он утром сквозь редкую ткань занавесок в мою комнату и полоснул по векам точно бритвой. И сразу обнажились трещины и пыль на белой штукатурке, высветилось над моей головой деревянное распятие с костлявым страдальцем Христом. На полу — слой пыли, деревянная дверная коробка источена термитами; в комнате висит кисловатый муравьиный запах. Накануне вечером дом на холме казался внушительным, даже мощным, но в честном, нелицеприятном свете дня он окончательно обветшал и стал каким-то ненадежным, шатким.