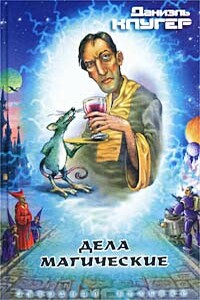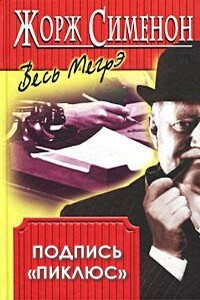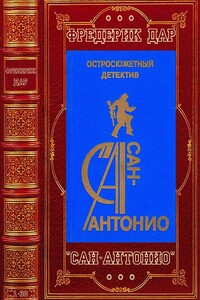Стоящие у врат | страница 6
Ныне я живу в Брокенвальде, и это можно назвать моей третьей поездкой в Германию. Впервые я оказался в этой стране в годы мировой войны, точнее в 1916 году. Будучи в те времена подданным Российской империи, то есть гражданином враждебного государства, к тому же — очень молодым (мне едва исполнилось шестнадцать лет), я оказался в числе интернированных германскими властями. Лагерь для перемещенных лиц оказался не столь страшным местом, к тому же местные жители относились к нам с определенной долей сострадания — так же как охранники, вышедшие из призывного возраста ополченцы-фольксштурмовцы. Парадоксом по нынешним временам, парадоксом, окрашенным трагической иронией, следует считать тот факт, что особым сочувствием пользовались евреи: в Германии тогда часто писали о еврейских погромах, чинимых казаками в прифронтовой полосе.
Вторичный мой приезд в Германию связан был с приглашением, о котором я писал ранее; я стал к тому времени подданным Польской республики, окончил университет, защитил докторскую диссертацию в Вене и, как уже было сказано, полтора года проработал в Бомбее. Приглашение в Хайдельберг стало по сути первым приглашением подобного рода, полученным мною, и ради него я прервал свою работу во французских архивах (меня интересовали сведения об эпидемиях чумы в средневековой Европе). Тогда-то я и увидел впервые аккуратный, словно игрушечный Брокенвальд, лежавший в горной долине, прекрасно сохранившийся замок XIII века, нависавший над городком, — и выразил легкомысленное желание поселиться здесь в конце жизни. Правда, подобно упоминавшейся мною девице, мне как-то в голову не пришло уточнить выражение «в конце жизни».
Я не мистик. Врачу трудно быть мистиком, хотя мой старший коллега, уже упоминавшийся Мордехай-Зеэв Хавкин, великий инфекционист и победитель чумы, всерьез занимался Каббалой и, в конце концов, предпочел славе победителя чумы тихую жизнь еврейского мистика в швейцарской Лозанне. Но, повторяю, я не мистик и потому в происшедшем вижу не столько проявление сверхъестественных сил, сколько мрачноватую иронию истории. Хотя, наверное, ирония истории, с точки зрения, например, доктора Хавкина или рабби Аврум-Гирша и есть в действительности проявление мистических связей, увиденных человеком с неправильным зрением материалиста.
Лет пятнадцать назад в Лодзи один хасидский адмор рассказывал мне историю о праведнике рабби Зусе. Однажды рабби Зуся заночевал в какой-то деревушке. Среди ночи его вдруг охватил необъяснимый ужас, от которого он проснулся и в буквальном смысле слова пустился наутек. Остановившись посреди ночной дороге лишь после того как деревушка скрылась за холмами, рабби почувствовал, что его страх исчез. Больше он никогда не посещал этих мест, хотя вся жизнь его, по словам адмора, протекала в странствиях. Адмор назвал испугавшую праведника деревню: Освенцим. Тогда это слово означало только то, что означало. Ныне, в связи с событиями полугодовой давности, свидетелем, и до известной степени, участником которых я стал, мне известно, что скрывается за этим названием.