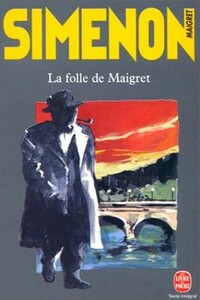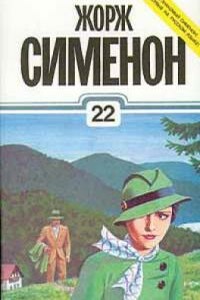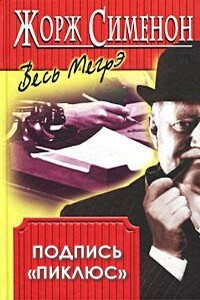Стоящие у врат | страница 35
Далее действие развивалось своим чередом. Странный эффект, пожалуй, создавал лишь язык постановки: актеры играли на идише, тем самым превращая венецианцев эпохи позднего Ренессанса в местечковых евреев — настолько, что, несмотря на сюжет, конфликт между Шейлоком (его играл сам Ландау) и Антонио воспринимался неким внутренним конфликтом между двумя евреями.
В третьем акте Шейлок появился в неожиданном облике: белый балахон вместо прежнего причудливо гротескного костюма. На балахон были нашиты разноцветные листья и огромные шарообразные пуговицы. Набеленное лицо с трагическим изломом черных бровей, черная слеза нарисованная у уголка правого глаза.
От прежнего Шейлока осталась лишь черная ермолка — но теперь она превратилась в шапочку трагического Пьеро. Когда Саларио и Саларино наперебой принялись насмехаться над ростовщиком, дергать его за непомерно длинные рукава, щипать и толкать друг к другу, листья, нашитые на белый балахон облетали словно от порывов ветра.
Шейлок вырвался из рук недругов и шагнул на авансцену.
У меня сжалось сердце: из всех листьев остался один, тускло желтый, зацепившийся на груди слева, и он больше походил на шестиконечную звезду, которую мы нашивали на одежду, выходя за ворота Брокенвальда.
Шейлок-Ландау выпрямился, обвел зал долгим взглядом страдальческих оттененных глаз. Медленно заложил руки за спину. Уставившись в коменданта, сидевшего в первом ряду, он негромко сказал:
— «Он меня опозорил, помешал мне заработать по крайней мере полмиллиона, насмехался над моими убытками, издевался над моими барышами, поносил мой народ, препятствовал моим делам, охлаждал моих друзей, разгорячал моих врагов; а какая у него для этого была причина? Та, что я еврей… — Ландау сделал паузу, которая повисла в напряженной тишине зала. Ландау покачал головой и заговорил по-прежнему тихо, но страстно: — Да разве у еврея нет глаз? Разве у еврея нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать — разве мы не смеемся? Если нас отравить — разве мы не умираем? А если нас оскорбляют — разве мы не должны мстить? Если мы во всем похожи на вас, то мы хотим походить и в этом. Если еврей обидит христианина, что тому внушает его смирение? Месть! Если христианин обидит еврея, каково должно быть его терпение по христианскому примеру? Тоже месть! Вы нас учите гнусности, — я ее исполню. Уж поверьте, что я превзойду своих учителей!»