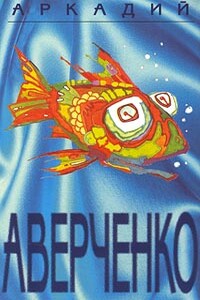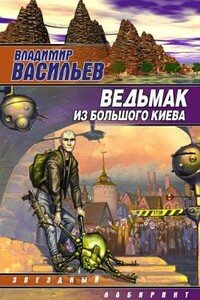Как говорил старик Ольшанский... | страница 36
Вовка Тюя захлопал глазами и открыл рот, а Фимка, вытащив из носа указательный палец, покрутил им у виска.
— Следите за мной, — сказал Мишка, и вышел на мостовую. Он повернулся лицом к клубу Фрунзе и высоко поднял голову. Он смотрел куда-то вверх, на крышу клуба. Мы подошли к нему и тоже задрали головы. Через некоторое время к нам присоединилась довольно солидная группа любопытных… И еще… И еще…
— Левее!.. Еще левее! — кричал Мишка, глядя на крышу и рукой указывая «правильное направление». — Так!.. Хорошо!.. Теперь выше! Выше, я говорю!
Вся площадь была заполнена народом, и все, задрав головы, пытались разглядеть кого-нибудь на крыше.
— Хорошо! — кричал Голубь, — Теперь чуть-чуть правее! Так, хорошо!.. А теперь — бросай!!! — закричал Мишка и, втянув голову в плечи и пригнувшись, расталкивая толпу, бросился бежать… И толпа, в дикой панике пустилась наутек…
Мишку мы догнали уже во дворе.
— Бора!
— Чего, баба?
— Булки дать?
— Не хочу, баба.
— Бора! Дать булки?
— Не…
— Бора, булки дать?
— Ой, я не хочу!
— Бора, тебе сварить смяткое яичко?
— Фи, не хочу!
— Бора, а чего же ты хочешь?
— Микаду…
(Микадо — треугольные вафли, которые продавались в послевоенные годы).
— Микаду ты хочешь… А больше ты ничего не хочешь? А, Бора? Может ты хочешь умереть с голоду, или быть без зубов от сладкого?
— Хочу микаду!..
— Ша! Ну, иди уже сюда…
— Баба, ты дашь деньги?
— Я тебе уже дам деньги и ты уже купишь себе эту микаду, раз ты очень хочешь эту микаду…
— Ой, баба!..
— Бора! Бора! Бора, стой! Остановись, тебе говорат!
— Ну чего, баба?
— Бора, ты не пропустил деньги мимо карману?
— Да нет же, баба.
— Ну и слава Богу! Иди уже за своей микадой… Что делать? Ребенок хочет микаду…
Борькин папа, Моисей Соловейчик, имевший Почетную грамоту, подписанную самим Микояном, работал на кондитерской фабрике имени Карла Маркса каким-то большим начальником. Когда Вилька впервые пришел к Борьке (а пришел он, чтобы увидеть эту самую грамоту и подпись одного из вождей), то он увидел в квартире еще одно чудо: круглый обеденный стол в однокомнатной квартире покрывала белоснежная скатерть, на которой парил в облаках громадный орел и на его спине сидел прекрасный юноша… или девушка (до сих пор этого никто не знает, так как «опознавательные знаки пола», по удачному высказыванию старика Ольшанского, были закрыты опереньем могучей птицы).
И это изображение так поразило Вильку, что он буквально на следующий день перевел рисунок со скатерти через копирку на лист ватмана, который украсил стену над диваном в его квартире на Большой Васильковской. Ведь Борька жил на улице Заводской, ее вскоре переименовали в улицу Чайковского. И не только потому, что его сестра играла на аккордеоне, и не потому, что их дворник играл на многих струнных инструментах, и не потому, что Вилька «стучал у медный таз», когда играл «сводный оркестр», и не только потому, что у Борьки Крысы на всю улицу орал проигрыватель, и не только… А, впрочем, может быть и поэтому. Тогда время было такое: все переименовывали. Так, нашу легендарную Большую Васильковскую нарекли Проспектом 40-летия Октября. «Почему 40-летия? — спрашивал всех старик Ольшанский, — почему? Вы представляете, — и через двадцать лет, и через сто, и через… когда уже нас с вами не будет, будет 40-летие Октября»… Почему бы просто не назвать «Проспектом Октября»? Мне кажется, что всем бы было понятно, о каком Октябре идет речь. Вы попомните мои слова, что через десять лет какую-нибудь Фрометовскую назовут именем 50-летия этого самого Октября. Но это еще будет…