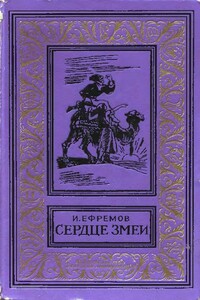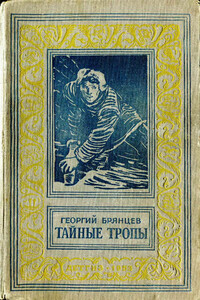Книжная лавка близ площади Этуаль | страница 23
Сегодня немцы передали по радио: заняли Ленинград. Не могу больше писать.
Пробую представить себе и все никак не могу, не укладывается в голове: Ленинград, самый красивый, самый торжественный, драгоценный мой город, сдался немцам?! Не может этого быть! Не верю! Ведь они часто, наверно даже всегда, врут по радио, и в листовках, и в "Голосе Полтавщины", врут о своих победах над нами, чтобы все поверили, что уже нет никакой надежды, что вся страна им покорилась. А главное, чтобы у всех опустились руки.
А вдруг все-таки правда?! Ведь заняли же они Харьков и Киев и другие большие города! Вдруг по Невскому, по Дворцовой набережной, по Марсову полю ходят немцы?! Как представлю себе это, прямо жжет сердце, дышать нечем и такая ненависть к ним пронзает, хочется схватить топор и бежать рубить, колоть каждого врага!
Но нельзя, нельзя мне думать об этом! Я запрещаю себе. Запрещаю на все время, пока не поправится мама-Дуся. Сейчас все мысли, все дела в одном: вытащить маму-Дусю из болезни, выходить ее. Она все время почти в забытьи, иногда только ночью приходит в себя, и я должна быть все время рядом: вдруг ей захочется чего-то, может, спросить или сказать. Вчера ночью вдруг позвала меня таким громким, совсем свежим голосом:
— Лиза, Лиза, обещай мне, дай слово, что никуда не уйдешь, останешься здесь, дождешься дядю Сережу и Даню. — И смотрит, смотрит так остро, в самую душу.
Я хотела было сказать: "Вы сами их дождетесь", как говорят в таких случаях, но у меня язык не повернулся. Я только кивнула и сказала:
— Слово даю, мама-Дуся, можете не беспокоиться, никуда я отсюда не уйду.
— Дождешься их?
— Дождусь, мама-Дуся.
— Ну, вот и хорошо, и ладно, и спасибо тебе за все, дочка моя, голубчик мой.
И опять куда-то провалилась, зашептала что-то свое. Она ничего не ест, только пьет иногда по ложечке чай с вареньем. Дома у нас ничего нет, все, что нужно, приносит Таиса от Горобца. Она очень хорошая, эта Таиса, и ужасно любит Александра Исаевича, прямо молится на него, говорит, что в больнице все санитарки, фельдшерицы и больные его обожают, считают гениальным врачом. Только боятся за него страшно: по паспорту Горобец украинец, но отец у него был крещеный еврей, и по немецким законам он тоже считается евреем. Если какой-нибудь подлец донесет, Горобцу не уцелеть. Таиса предупреждала меня, чтоб я не выходила никуда — немцы хватают девушек и куда-то увозят. Сама Таиса ходит до глаз закутанная в платки, а лицо вымазано сажей, "чтоб никто не польстился", как она говорит. И все-таки сегодня мне пришлось пойти с моим маркизетовым синим платьицем на рынок. Мама-Дуся вдруг попросила чего-нибудь кисленького, а кисленького ничего и нет. Ох, если бы ты знал, что такое сейчас рынок! Это центр, самое средоточие, единственное место в городе, где кипит жизнь. Но жизнь темная, грязная, вороватая. Вылезли откуда-то странные типы, будто из каких-то фильмов о старой жизни: в фуражках, украинских рубашках вышитых, в каких-то залихватских кепчонках. Что-то продают, выменивают из-под полы, что-то тащат, торгуются, выпрашивают. В ходу водка, немецкие марки, немецкие сигареты, даже французские коньяки. На мое платьишко и смотреть не хотели, а тут вдруг подвернулась Галка Лялько: