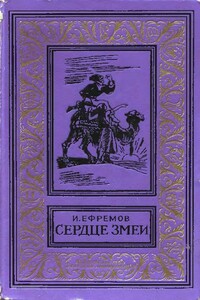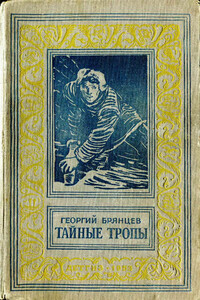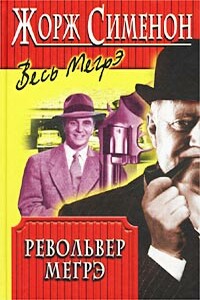Пассажир «Полярной лилии» | страница 91
Я жду, пока мне разрешат встать. Жду, пока проснется дядя. Отец ничего не ждет — он поддразнивает пышногрудую Лину, а сестры в это время болтают по-фламандски.
Этот дом не похож ни на один другой; кажется, что в нем много разных домов сразу и покупателям, входящим в лавку, открывается лишь самое банальное из его лиц.
Уже на кухне, которую освещает, словно люстра, окно в потолке над столом, воздух густо пахнет семейным бытом; никогда я не видал, чтобы какая-нибудь вещь лежала там не на месте. А заглянуть с фасада — увидишь витрину, решетки, садик с пышной растительностью: настоящий буржуазный дом, дубовые двери, гостиная, где Лина только что играла на рояле.
Все это великолепие связывается с внутренней частью дома путаницей коридоров, пахнущих мастикой; один из коридоров упирается в дверь, ведущую в мастерскую, где сидят старый Люнель и подмастерье.
Они сидят очень низко, почти на полу, широко расставив ноги. Подмастерье — почти карлик, горбун с огромным ртом и пылающими глазами.
С утра до вечера оба они, мой дядя с бородой патриарха и горбун, плетут корзины из ивовых прутьев. Прутья вкусно пахнут. Их запах царит в одной части дома, а дальше смешивается с запахом мастики, добирается до кухни с ее смешанными ароматами и, наконец, вносит свой особый оттенок в сложную атмосферу лавки.
Старый Люнель овдовел, и ему было пятьдесят, когда он женился на Анне. Дом уже в ту пору обладал своей нынешней физиономией. Тетя вошла в него тихо, смиренно склонив голову.
Наверняка Люнель в согласии с Евангелием решил, что нехорошо человеку быть едину!
И все-таки он один у себя в доме, один в мастерской, один с горбуном, один на кухне, где спит или притворяется спящим, улыбаясь в бороду с утра до вечера. Улыбка тети Анны — это ужасная улыбка праведницы: в ней читается нарочитое милосердие, доброта, которая знает себе цену и восхищается собою.
А улыбка старика Люнеля? Она говорит о том, что он предпочел самоустраниться, схорониться в уголке под уютным прикрытием собственной глухоты!
Он нас не целует. Когда мы, племянники или племянницы, подходим к нему, он делает мягкое, но непреклонное движение рукой, как бы отстраняя нас. А если мы заглянем к нему в мастерскую, он тут же выдает нам по белому ивовому прутику, чтобы мы поскорей ушли играть.
— Иисус-Мария! — вздыхает тетя, косясь на Дезире. О чем это напела ей Анриетта? Снова о «самом не обходимом»?
Варят кофе. Лину посылают за пирожными.
— Ну нет, Анна! За нас я заплачу сама… Анриетта роется в кошельке.