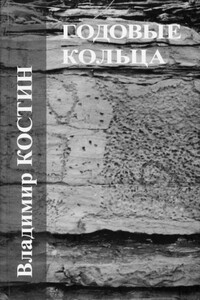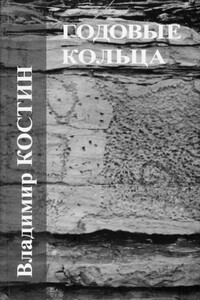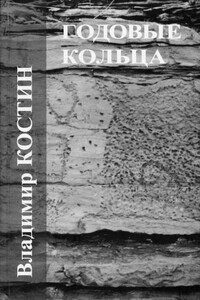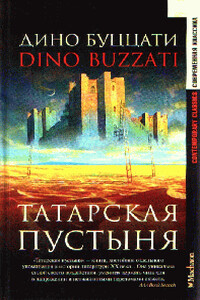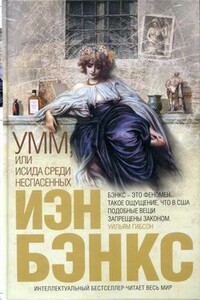Годовые кольца | страница 23
Боялся, что спросит — это означало бы, что, осознавая себя в полном зрелом разуме, я все-таки сошел с ума и, может быть, задолго до этой очной ставки.
Дай бог памяти, трамвай в нашем городе пустили, чуть отдышавшись после войны, еще до появления первых асфальтовых полосок. Говорят, была стылая, ветреная весна. На том трамвайном лбу развернули кумач: «Партия — наш рулевой», водительское место украшал пучок полураспустившихся вербочек. Тогдашний партийный руководитель нашего замалчиваемого края, сверху донизу грешный и черствый человек, заплакал, когда вожатая потянула веревочку и вагон подал голос. Свой трамвай, сказал он, теперь помереть не страшно. Он не мог знать, что отныне своими для нас стали и все прочие трамваи страны, так как мы вступили в Трамвайный Орден имени всех безлошадных. Бывают чужие города, чужая природа, чужие постели, но чужих трамваев не бывает. Города разные, старые и новые, у каждого свое богатство и своя болезнь, но трамвай — везде трамвай, с ним не надо знакомиться, гостя в самых дальних пределах. Он всегда в считанных остановках от твоего дома.
Хочешь перевести дух, опомниться в чужом городе — садись в трамвай, на привычное место в тылах. Дома и перекрестки обернутся на ходу их томскими подобиями, разговоры тебе подтвердят, что ты, пожалуй, никуда не уезжал — а вот и знакомый прогон, где над путями изо дня в день, из года в год свисают ленивые тополиные ветви, что поначалу гладят, а потом колотят и царапают трамвайные стекла.
Однажды вожатая остановит вагон и заготовленным топориком отрубит ветку-другую. (Иная бормочет по возвращении: «Сколько можно мучиться, раздолбает стекло и ваших нет», извинительно; иная вернется молча, с напускным вызовом оглядев салон.) На следующий год до трамвая дотянутся новые, младшие ветви.
Все кондукторши, московские, смоленские, томские, выглядят родственницами. Есть пассажиры, что бескорыстно знают их по именам и беспокоятся, когда на их троне появляется сменщица. Они на выходе возвращают кондукторшам несмятые билетики, чтоб те могли их продать снова и заработать детям на сладкое, а себе на горькое.
Для пассажиров это редкая и приятная, безопасная возможность восстановить справедливость.
«Не все ли нам равно?» Вчера здесь вставали на колеса воинствующие безбожники из невеликих, сегодня — благочестивые разбойники из робких. Толкотня и жажда обидеться суть формы нашего социального реванша: трамвай равно бережет и незаживающую крестьянскую обиду на советскую власть, и сросшуюся с ней обиду осовеченного человека на капитализм. Трамвай помнит все, только память эта слиплась и почти неразложима.