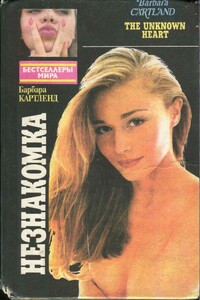Американская пастораль | страница 31
Для разрушения их горячей и неослабной веры в наше совершенство и дезертирства в запретные области потребовалось бы куда больше храбрости — или глупости, — чем могло наскрести подавляющее большинство из нас. У нас не было аргументов, позволявших оспорить их доводы о необходимости соблюдать законопослушность и в то же время стремиться к первенству, и мы добровольно передавали почти всю полноту власти в руки взрослых, с нашей помощью пробирающихся вперед и выше. Такое соглашение иногда оставляло на подростке свои метки, но нервных аномалий почти не было, во всяком случае, тогда они не обнаруживались. Бремя возложенных ожиданий, слава богу, не убивало. Конечно же, были семьи, в которых родители чересчур нажимали на тормоза, и, отпусти они их немножко, все только выиграли бы, но в большинстве случаев трения были необходимы и достаточны для обеспечения нас возможностью шагать дальше.
Ошибаюсь ли я, полагая, что мы были довольны своей жизнью? Самые распространенные из заблуждений — те, что вызваны ностальгией пожилого возраста. Но так ли я ошибаюсь, считая что дети из обеспеченных флорентийских семей времен Ренессанса вряд ли были счастливее нас, росших в пределах пространства, в каждую точку которого неминуемо долетали запахи солений и маринадов из лавки Табачника? Ошибаюсь ли я, полагая, что даже тогда, в ясном свете текущего дня, жизнь была так насыщенна, что создавала невероятную яркость переживаний? Разве когда-либо потом нам доводилось окунаться в мир, наполненный таким разнообразием подробностей? Подробности, маленькие фрагменты, безбрежное море фрагментов, их значимость, вес. Бесконечное множество фрагментов окутывает тебя в юности так же плотно, как окутают после смерти шесть футов земли, насыпанной на твой гроб.
Вероятно, ближайшая округа уже по самому определению является тем местом, которому ребенок отдает все свое внимание, именно здесь приобщается к подлинным смыслам, и перед ним открывается неприкрытая суть вещей. И все-таки сейчас, пятьдесят лет спустя, я спрашиваю, удавалось ли вам потом войти в жизнь так глубоко, как на этих улицах, где каждый большой и маленький дом, каждый двор, каждый этаж в любом доме — стены, потолки, двери окна в жилище даже наименее близкого тебе приятеля — были настолько бесконечно индивидуальны? Дано ли было нам позже так точно фиксировать все оттенки форм разбросанных вокруг нас предметов или тончайшие градации социального статуса, выявляемые линолеумом и клеенкой, свечами, что зажигают в праздники, и запахами кухни, настольными лампами фирмы Ронсона и жалюзи на окнах? Друг о друге мы знали все: и что у кого лежит в коробке для завтрака, и кто чем полил сосиску, купив ее у Сида; мы наизусть знали физические особенности каждого: кто косолапит и у кого уже растет грудь, кто пахнет бриллиантином и кто, когда разговаривает, брызжет слюной; мы знали, кто среди нас задира, а кто всегда дружелюбен, кто умный, а кто туповат, чья мама говорит с акцентом и чей папа носит усы, у кого мама работает и у кого папа умер; каким-то образом мы даже улавливали, как те или иные семейные обстоятельства приводят к отчетливо видным трудным проблемам.