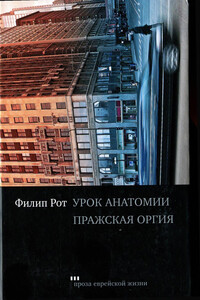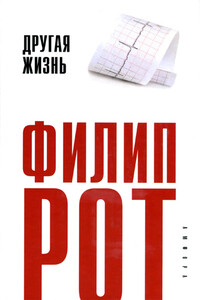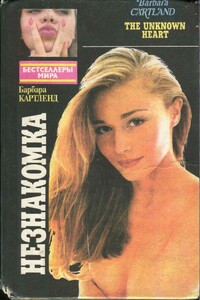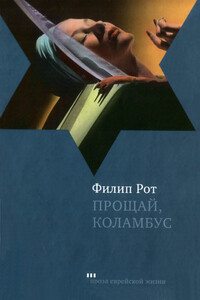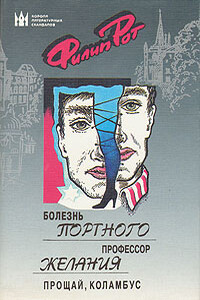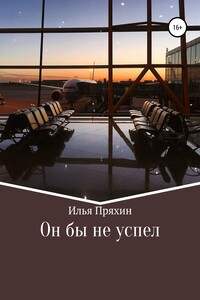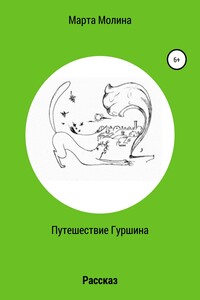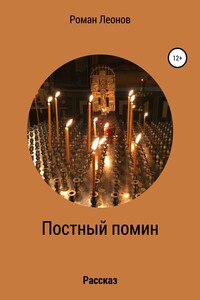Американская пастораль | страница 30
А если все это, то есть победоносное завершение огромного этапа, перевод стрелок на часах истории, освобождение целей и планов народа из-под власти прошлого, было все еще недостаточно для истинного вдохновения, то на помощь спешил наш собственный микромир, решимость всей общины сделать так, чтобы нас, детей, навсегда миновали бедность, невежество, болезни, социальная несправедливость, страхи, а главное — жалкое прозябание. Вы не должны потерпеть крах! Добейтесь реализации и успеха!
Несмотря на подспудно бегущий ручеек тревоги — ежедневное напоминание о постоянной угрозе неблагополучия, которого можно избегнуть лишь столь же постоянным прилежанием; несмотря на всеобщее недоверие к нееврейскому миру; несмотря на страх поражения, въевшийся в души многих семей со времен Великой депрессии, наша община не прозябала в мрачности. Все вокруг озарялось прилежным трудом. Вера в будущее была безгранична, и мы неутомимо направляли парус в сторону успеха: лучшая жизнь должна была стать нашей. Наша задача — ставить перед собой задачи, наша цель — иметь цели. Этот призыв нередко отдавал истерией — воинственной истерией тех, кто по опыту знал, с какой легкостью даже и малое враждебное зерно безнадежно ломает человеческую жизнь. И все-таки именно этот призыв — пусть эмоционально перегруженный внутренней неуверенностью наших родителей, отдающих себе отчет в совокупности противостоящих сил, — придал нашему мирку черты единства. Весь взрослый мир непрерывно твердил нам: не разгильдяйничай, доводи дело до конца, не упускай никаких возможностей, используй все преимущества, ни на минуту не забывай о значимом.
Разрыв между поколениями был ощутимым, и предметов для споров хватало: существовал взгляд на мир, от которого старшие не готовы были отказываться; правила, казавшиеся им незыблемыми, для нас после каких-то двух десятилетий в Америке представлялись уже просто бессмысленными; вечная неуверенность во всем была свойственна им, но не нам. Один из вопросов, витавших в воздухе, состоял в том, насколько нам позволительно от них освободиться. Противоречивый и раздражающий, он был предметом бесконечных размышлений. Некоторые набирались смелости и восставали против наиболее догматических точек зрения, но вообще-то конфликт между поколениями никогда не доходил до той остроты, которую он приобрел двадцать лет спустя. Наш мирок никогда не был полем сражения, усеянным трупами жертв недопонимания. Послушания добивались с помощью многословных и темпераментных убеждений, потенциальные подростковые бунты пресекались в зародыше с помощью тысячи требований, условий, запретов — то есть ограничений, которые в конечном счете оказывались неодолимыми. Помогало и наше собственное реалистическое понимание своих интересов, и повсеместно распространенная в эту эпоху крепость моральных устоев, чьи табу были впитаны нами с молоком матери. Не последнюю роль сыграла и идеология родительского самопожертвования, тормозившая наши поползновения к открытому бунту и заставлявшая скрывать почти все нарушающие приличия порывы.