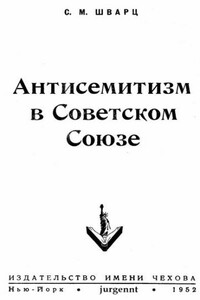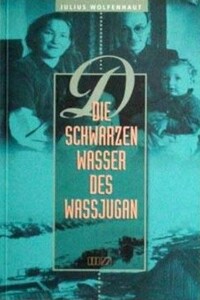Антисемитизм в Советском Союзе | страница 2
Когда я однажды попросил Шварца обрисовать картину рабочего Санкт-Петербурга накануне Первой мировой войны и, в частности, тогдашнюю эволюцию Санкт-Петербургского Союза металлистов (журнал этой организации он издавал летом и осенью 1913 г., пока большевики не захватили контроль над этим Союзом), его ответ сфокусировался (до такой степени, что он не затрагивал больше ни один другой сюжет) на кампании по социальному страхованию, которую он проводил в течение этого периода, стремясь соединить привлекшие внимание меньшевиков принципы инициативы с независимой деятельностью рабочего класса.
Подобным же образом, когда я попросил Шварца реконструировать, прежде всего через призму Октября 1917 г. (когда он был вице-министром труда), дни, непосредственно предшествовавшие взятию власти большевиками, его мысль опять упрямо зациклилась на законодательстве по социальному страхованию, набросками которого он занимался в ночь, когда большевики брали власть, все еще стараясь правдоподобно объяснить в своих заготовках принципы рабочей самопомощи и самоуправления.
А когда весной 1918 г. Шварц обратился к рабочим Путиловских заводов, сделав это по требованию лидеров меньшевистского правого крыла, стремившихся организовать движение уполномоченных с целью бросить вызов доминирующему положению большевиков в Советах, он произнес перед своей горячей, но все больше приходившей в замешательство рабочей аудиторией страстную речь, кульминировавшую в священной (для него) фразе: «Вперед к капитализму!». (Мне вряд ли следует добавлять, что шварцевская концепция «капиталистического развития», как и большинство других, носивших земной характер вопросов, стойко оставалась в высшей степени категорией абстрактной).
Конечно, шварцевское упрямство и политическая невинность казались идиосинкразией даже многим из его товарищей. Но в менее чистом виде некоторые из составляющих, способствовавшие росту этих качеств, были в самом деле характерны для той политической культуры, в которой он был сформирован и оставался абсорбированным. Эти атрибуты меньшевистской политической культуры могут нам объяснить, во всяком случае частично, ту модель, которую большевизм (первоначально произраставший из той же самой политической почвы, что и меньшевизм, и тем не менее ставший во многих отношениях его психологической, а равным образом и политической противоположностью) все более и более интенсивно формировал….
… Величие этого организованного видения, качества революционного аскетизма и самоотверженности, а также ясность, внешняя рациональность — такие характеристики ленинских политических оценок, и в особенности стратегия и тактика, которые он из них выводил, — казались в огромной степени привлекательными многим будущим меньшевикам в течение искровского периода, когда этот взгляд был впервые отчетливо выражен, и даже в 1905 г., пока революция казалась близкой. Стоит, пожалуй, напомнить, что многие из будущих меньшевиков, в особенности из среды тех, кто в конечном счете взял на себя организационные обязанности практиков меньшевистской партии (включая и таких как будущие сотрудники нашего проекта, вроде Георгия Денике и Соломона Шварца) де-факто были большевиками в 1905 г.