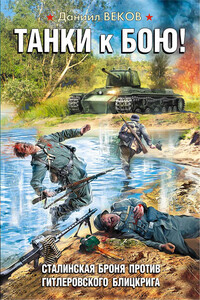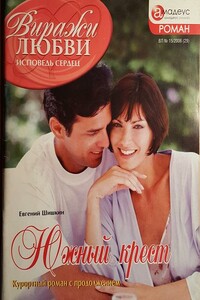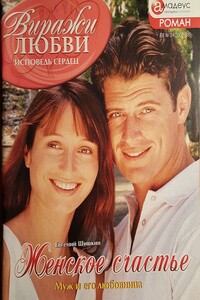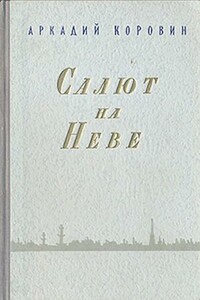Добровольцем в штрафбат. Бесова душа | страница 55
Доходяга поднял голову на идущую на него ель, но даже не рванулся в сторону, наверное, все инстинкты околели в нем. Ветвисто-широкая ель рухнула наземь, пружинисто смягчила лапами удар, пошевелилась еще, будто в агонии, и замерла. Она наглухо накрыла доходягу, обняла ветками, безжалостно удавила в объятиях. Тот даже не пискнул.
— Пойдем поглядим, — сказал Федор, взволнованно дыша. Он и сам на мгновение побывал под падающей елью, но, в отличие от доходяги, успел выскочить…
— Чего глядеть? От него труха осталась. Отмаялся человек Нам-то с тобой не слаще, — пробурчал Волохов, стал дергать пилу в одиночку, но тут же и бросил впустую жечь силы. Заговорил колюче, злее, чем прежде: — Довели народец! Сам на плаху голову кладет! Смертушки ищет… То междоусобной войной, то тюрьмой изводят. Власть-то хуже напасти сделалась! Чума пройдет — народец выкосит. Самоуправец на трон залезет — хуже чумы выйдет.
Федор глядел, как несколько зэков, собравшихся возле поваленной ели, пытались высвободить из-под нее несчастного дохлеца. К месту события подскочил и бригадир Манин, размахивал руками, чего-то указывал, доносился его резкий голос:
— Пускай лежит, дурья башка! После распиловки вынем… Скоко нарубили, ты говоришь?… Пока нормы не будет, на зону ни шагу!
Волохов сел на пень поблизости, достал свой табачный мешочек, наскребал из скудных сусеков на закрутку. Снова заговорил, тише, ровнее, но столь же непримиримо. Под толстыми бровями с седыми крапинами черно вспыхивал злой взгляд.
— С Николашки малахольного все повалилось. Ни рассудка, ни воли — как ковыль в степи по ветру… Уродец на троне с рожей благообразной. Россию защитить не мог, престол свой похерил. Войну с япошками проиграл, на германском фронте погряз. От трона отрекся, а ведь помазанник Божий! И Россию, и Бога предал, как Иуда… К бабе своей, инородице, распутника Гришку допустил, нечисть во дворце пригрел. От Николашки везде и плесень поползла… Хилому орлу дятлы красные голову свинтили, теперь сами народец долбят. Сучье семя!
Почти неразлучно находясь с Волоховым, доверительно пребывая с ним в одной лямке, Федор многое узнает из петлистой полувековой биографии напарника. Выходец из крестьянской семьи архангельского середняка, в юные годы Семен Волохов преуспел в грамотействе. Потому и дерзнул, как когда-то Михайло Ломоносов, податься в Петербург, искать ученого поприща. В столичном студенчестве он, однако, числился недолго: разразилась Первая мировая и Волохов истовым патриотом стал под штандарт царской армии. В германскую дослужился до офицерского чина и носил за доблесть Георгиевский крест. Но с той же германской, захлестнутой мутью революционных приливов, невзлюбил безволье царя, трусость белоруких чинуш, всю барскую государственную челядь. В конце концов боевая тропка вывела Волохова на нетвердую в ту пору большевистскую почву. Гражданскую он завершал на стороне красных, щипал на севере антантовских друзей-недругов. Во времена нэпа Волохов жил в Питере, служил по железнодорожной части и существовал безбедно и весело. Но когда нэпманов «причесали», а крестьянин отец подпал «под раскулачку» и был обобран как липка, он вознегодовал на чинимый властями строй. «Николашку свергли, а народец посулом купили. Проста штука, да безотказна! Народец-то как баба. Наобещай ей с три короба — она и замуж за тебя выскочит. Потом знай грузи воз сколько хочешь да стегай кнутом. Из хомута не вылезешь. Черта с два! Красный-то хомут туже царского! Его снять — когда голову срубят…» За резкое витийство с пряными словечками не сносить бы Семену Волохову головы от неизбежного политического доносительства. Но повезло. Он угодил в заточение по уголовному делу — еще до плодовитых на тюрьмы и казни предсороковых годов.