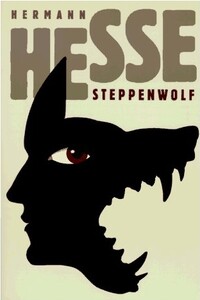Гертруда | страница 71
Обессилев, я стоял у стола и пытался собраться с мыслями. Итак, меня все-таки остановили, нарушили мое заклятье. Что это такое лежит? Телеграмма — от кого? Все равно, меня это не касается. Это хамство, приносить мне сейчас телеграммы. Я все подготовил, и вот, в последнюю минуту, кто-то присылает мне телеграмму. Я огляделся, на столе лежало письмо. Письмо я сунул в карман, оно меня не тревожило. Но телеграмма меня мучила, она вторглась в мои мысли и прорвала очерченные мною круги. Я сидел напротив нее, смотрел, как она лежит, и раздумывал, читать мне ее или нет. Конечно, это было посягательство на мою свободу, в этом я не сомневался. Кто-то вздумал попытаться мне помешать. Моего бегства не допускали, хотели, чтобы я вылакал, испил до дна свое страданье, чтобы не избежал ни единого укуса, укола, ни единой судороги.
Почему эта телеграмма так беспокоила меня, я не знаю. Долго сидел я у стола и не решался ее прочесть, чувствуя, что в ней кроется некая сила, способная потянуть меня обратно и заставить выносить невыносимое, все то, от чего я хотел бежать. Когда я наконец ее все-таки вскрыл, листок дрожал у меня в руке и я долго вникал в ее содержание, словно мне приходилось переводить с редкого иностранного языка. Текст гласил: «Отец при смерти. Прошу приехать немедленно. Мама». Постепенно я понял, что это значит. Еще вчера я думал о моих родителях и сожалел, что вынужден причинить им горе, но это соображение было каким-то поверхностным. И вот они заявили протест, оттащили меня назад, предъявили свое право на меня. Мне сразу же вспомнились беседы, какие я вел с отцом на Рождество. Молодые люди, сказал он, в своем эгоизме и чувстве независимости способны дойти до того, чтобы из-за неудовлетворенного желания покончить с жизнью; однако тех, кто знает, что их жизнь связана с жизнью других, — тех собственные вожделения уже не смогут завести так далеко. Но ведь я тоже был связан такими узами! Мой отец лежал при смерти, мать была с ним одна, она звала меня. Угроза его жизни и ее беда в ту минуту еще не тронули моего сердца, я считал, что познал горшие страдания, вместе с тем я понимал, что невозможно сейчас взвалить на них еще мою собственную ношу, не услышать их просьбу, сбежать от них. Вечером я был уже на вокзале, готовый к отъезду; машинально, но добросовестно я сделал все необходимое — купил билет, взял сдачу, вышел на перрон и сел в вагон. Там я уселся в угол, готовый к тому, что мне предстоит ехать долго, всю ночь. Вошел какой-то молодой человек, огляделся, поздоровался и сел напротив меня. Он что-то спросил, но я только взглянул на него, ничего не думая, с единственным желанием, чтобы он оставил меня в одиночестве. Он кашлянул и встал, взял свою сумку из желтой кожи и подыскал себе другое место.