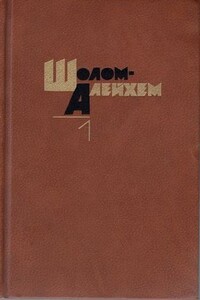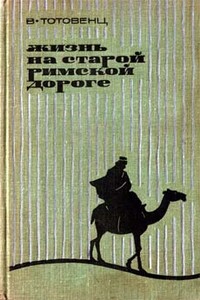Леопард | страница 55
Вот уж месяц, как уехал Танкреди; он находился теперь в Казерте при штаб-квартире своего короля; оттуда он время от времени присылал дону Фабрицио письма, которые тот читал, чередуя брюзжание с улыбкой, и затем прятал в самый отдаленный ящик своего письменного стола. Кончетте он совсем не писал, но со своим обычным милым лукавством не забывал передавать ей привет; однажды он даже написал: «Целую руки всех милых леопардочек, и особенно Кончетты». Отцовская осторожность заставила князя пропустить эту фразу при чтении письма собравшейся семье.
Анджелика посещала замок почти ежедневно и стала еще соблазнительнее. Обычно ее сопровождал отец либо горничная, которая славилась своим «дурным глазом»; официально визиты наносились подружкам, девушкам, на деле же их затаенный смысл становился очевидным, когда она с напускным безразличием спрашивала: «А есть ли известия от князя?» Слово «князь» в устах Анджелики — увы! — больше не относилось к нему, дону Фабрицио; князем она называла гарибальдийского капитанишку, и это вызывало у Салина странное ощущение: бумажная нить чувственной зависти переплеталась с шелком радости, приносимой успехами дорогого ему Танкреди, — в конце концов, это ощущение было досадным. На вопрос всегда отвечал он сам, и отвечал продуманно; он говорил о том, что знал, но прежде осторожные ножницы срезали с куста новостей все шипы (частые поездки в Неаполь; совершенно недвусмысленные намеки на красоту ног Ауроры Шварцвальд, маленькой балерины из театра Сан-Карло), а также преждевременно распустившиеся бутоны («сообщи мне, как поживает синьорина Анджелика», «в кабинете Фердинанда II я видел „Мадонну“ Андреа дель Сарто, которая напомнила мне синьорину Седара»).
Так лепил он странный и весьма далекий от истины образ Танкреди: никто не посмел бы бросить ему упрек в том, что он выступает в роли свата или нарушителя чужого праздника. Эта осторожность в словах весьма соответствовала его собственному отношению к расчетливой страсти Танкреди, но она раздражала его, поскольку утомляла; впрочем, это лишь один из сотни примеров тех словесных уловок и умолчаний, к которым князь с некоторых пор вынужден был прибегать. Он с завистью вспоминал о прошлом годе, когда высказывал все, что только ни придет ему в голову, уверенный, что каждая его глупость будет воспринята как слово евангелия, а любая безрассудная выходка — как проявление княжеской беспечности.
Встав на путь сожаления о прошлом, он в минуты наиболее скверного расположения духа забирался в глубь времен: однажды, накладывая сахар в чашку чая, притянутую ему Анджеликой, он обнаружил, что завидует возможностям тех Фабрицио Салина и Танкреди Фальконери, которые жили три века тому назад. Уж они-то удовлетворили бы свое желание переспать с Анджеликой тех времен, не заглядывая для этого предварительно к приходскому священнику, не заботясь о приданом своих крестьянок (которого, впрочем, не существовало) и освобождая своих уважаемых родных от необходимости лавировать, когда нужно сообщать или умалчивать о некоторых вещах. Импульс атавистической порочности (впрочем, это была не только порочность, но и чувственное выражение лени) был столь сильным, что заставил покраснеть почти пятидесятилетнего цивилизованнейшего дворянина, и в душе его, хранившей, несмотря на многочисленные фильтры, следы угрызений совести Руссо, заговорило чувство стыда. Впрочем, это лишь обострило его отвращение к социальной конъюнктуре, с которой он столкнулся.