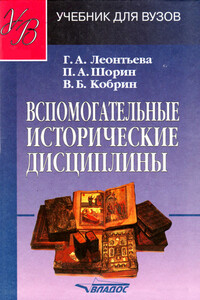Иван Грозный | страница 44
Но новых побед не было. Зато в январе 1564 года русские войска были разбиты в битве у реки Улы, недалеко от Полоцка; главный воевода князь Петр Иванович Шуйский погиб, несколько воевод и сотни служилых людей попали в плен. Последовали и новые неудачи.
Царь Иван быстро нашел виноватых, хотя они и находились за сотни верст от театра военных действий. Перекладывать ответственность за свои ошибки на других стало с тех пор обыкновением царя. Впрочем, и здесь он - не исключение. Таков обычай многих деспотов. За поражение ответили два двоюродных брата из рода князей Оболенских - Михайло Петрович Репнин и Юрий Иванович Кашин. Репнин, герой известной баллады А.К. Толстого, согласно рассказу Курбского отказался плясать на пиру в маскарадной маске: счел это унизительным для себя. Царь убил его собственноручно. Кашина убили по царскому приказу, когда он шел в церковь, говорили, что даже на самом ее пороге. Тогда же за ссору с царским любимцем Федором Алексеевичем Басмановым поплатился жизнью еще один из Оболенских - князь Дмитрий Федорович Овчинин (племянник фаворита Елены Глинской). Казнен был и известный воевода Никита Васильевич Шереметев. Это было начало казней.
В те же годы царь начинает наступление против старицкого князя Владимира Андреевича. Грозный опасался своего кузена с тех пор, как тот выступил в роли династического соперника для царевича. В 1563 году дьяк старицкого князя Савлук Иванов, посаженный своим государем в тюрьму, сумел оттуда переслать царю донос. Кто знает, за что был в действительности заточен Савлук Иванов, но изображал он дело так, будто арестован за то, что хотел открыть царю “великие изменные дела” Владимира Андреевича и его матери княгини Ефросиньи.
Савлука доставили в Москву, царь быстро убедился в виновности своей удельной родни (а убедиться очень хотелось), князь и его мать повинились (в невиновных, признающихся в преступлениях, в годы террора никогда нет нехватки). Царь их милостиво простил: должно быть, раскаяние было условием прощения. Но все же княгиню Ефросинью сослали в Горицкий монастырь на берегу Шексны, неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря, а у Владимира Андреевича забрали часть его удела, дав, впрочем, взамен другие земли. Это был первый звонок для старицкого князя.