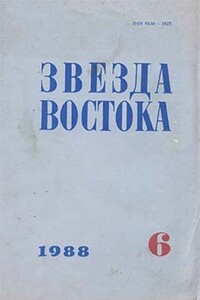Розы в ноябре | страница 86
Испарина легла на лоб, когда он вспомнил себя — с трясущейся рукой, сжавшей отцовские деньги, и после — шкодливо проскочившую там, на почте, мыслишку — не возвращать пока долг, придержать, скопить, посоперничать кошельками…
Нет! Согласиться на такое — значит убить в себе человека. В себе и в ней…
Он сжал зубы — в челюстях отдалась боль. Гремела угрожала, рвалась из рук дойра. Не могу побежденным я жить на земле!
Яхья протянул платок, пахнущий духами и табаком:
— На, утри лоб. И скрепись, парень, концерт будет долгий. Когда так встречают, не знает она усталости…
Концерт был долгий.
Словно все женщины мира прошли перед ними, и в каждом танце представало иное обличье, то хрупко-нежное, как цвет миндаля, то торжественно-величавое, то огненно-страстное; она смешила — и заставляла грустить, и был танец, как самозабвенный полет ласточки в бездонном небе, и танец, как битва, и танец, как повесть о счастье матери, вырастившей сына…
Искры факелов летели и гасли, как будто золотые бабочки складывали крылья. Гул толпы заглушал шорох листвы чинаров. Вскрики. Пристукиванье ногой. Прищелк пальцев, острый и резкий, как звук взведенного курка, — слышались там, за спиной. Как будто танцевал каждый…
У Сарвара затекли руки, ломило спину. «Не могу побежденным я жить на земле!» — веселая ярость двигала его пальцами, пусть этот вечер длится, еще, еще, греми, выстукивая, зажигай, дойра!..
— Катта уйин! — этот первый возглас был как первый камень с горы. За ним — лавиной рушилось: — Катта уйин! Катта уйин!
…Большой танец!
Это — как дастан о любви, сочиненный и пропетый неведомо кем, это — долгая жизнь, вместившаяся в один час… Танцует его каждый иначе, но каждый раз это самое трудное испытание для танцора.
— Эх-хе, было бы — начать с него! — стонал Яхья. — Теперь уже силы отданы, не вытянет…
— Катта уйин! — громом прокатывалось в толпе. И она, Нодира, сделала знак — приметный лишь музыкантам.
Начался катта уйин.
…Гаснет и вспыхивает парча камзола. Облаком взвивается вуаль, и глаза сквозь кисею — как звезды в вечерней мгле.
Вот она вышла навстречу ночи, трепеща.
Тяжесть ночи была на ее ресницах, они опустились легли на щеки — и вдруг взметнулись снова.
Легкий, легкий, неслышный шаг. Женщина идет. Идет, боясь, что ее услышат. Остановят. Вернут. Не смерть ли грозит ей — все ближе. С каждым трепетным шагом. Но она — идет.
Ее ждут. Там, у дерева, слившись с тенями ночи…
Арык на ее пути. Вода — зыблется она и струится, как эти руки, поднятые к груди, как тончайший трепет пальцев. Как эти брови, играющие над влажным блеском глаз. И кос ее, синие струи, стекающие с плеч…