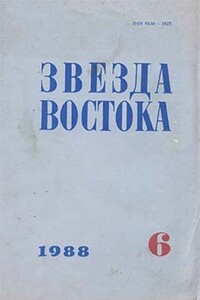Розы в ноябре | страница 81
А все было так просто. Прибежал мальчишка — косоватый, с неровно обритой головой. Сопя, подал записку: „Тов. Шодиев! Вы не вернули библиотечную книгу „Три корня“.“ Прошу сегодня же занести в библиотеку. Салимова».
Так, значит, она у себя? Не заперта, не окружена соглядатаями? И все еще можно сказать?
Задыхаясь, Сарвар шагнул в знакомую комнату. Все было, как всегда. Книги. Сумеречная синева за окном. Строгий халатик.
Лицо было другое.
«У девушки семь лиц», — вспомнилась дедова поговорка. Это было незнакомое лицо, высокомерно-застылое, холодное и чужое. На него поглядели глаза черно сверкнули, словно глубокая стоячая вода. И ему вдруг стало холодно, зябко до дрожи…
Чужой рот — темный и узкий — дрогнул. Чужой голос сказал:
— Говорят, ходишь ты все. Говорят, ищешь, кто бы вступился за меня…
Он молчал. Свело пересохшее горло.
— Или кто сказал, что я просила заступничества? Так ты не верь, наболтали люди…
— Значит… — Сарвара качнуло к ней. — Значит, ты хочешь сама? За калым?..
Она молчала. Недобро светились глаза.
— Гордишься, может, что дорого покупают? — страшная сила гнева, отчаянья и боли, невыносимое пересеченье чувств сорвало ему голос.
— Поздно спросил, — улыбнулись темные губы. Темные, как темен спелый гранат, твердое зерно его…
— Поздно… Не ставь ногу в стремя, пока не взнуздал коня.
И — глазами, взглядом — прогнала его.
…Он сидел на кошме в углу. Без слов, без мыслей. Ел. Пил. Разговаривал. Странное было ощущенье — будто завтра никогда не наступит. Ничего не будет больше…
А поздно ночью, когда все уже спали, отец подсел к нему. Большой, с понурой спиной, в ластиковом чапане домашнего шитья, в тюбетейке, на которой от ветхости проступили белые нитяные строчки сквозь облезший бархат…
Сарвар ждал.
— Знаю. У любви нет советчиков, — начал отец. Остановился, будто слова обдирали горло. Вздохнув, продолжал с усилием:
— Простой я человек. Кузнец. Дело мое железное, не тонкое дело. Но прожил я жизнь не осмеянным, вслед не тыкали пальцем…
Глаза отца поднялись на Сарвара — прямо, строго.
— Не позорься, не ходи по людям! Джигиту два позора — все равно, что одна смерть!
Сарвар сжался в комок, вздрагивал при каждом слове. С каким сожаленьем, с какой любовью и болью глядели на него усталые, в красных прожилках отцовские глаза, под бровями, опаленными жаром горна!
Отец достал из кармана, видно, загодя заготовленную пачку десятирублевок. Разных — новеньких, хрустких и потертых, с подклееными уголками.