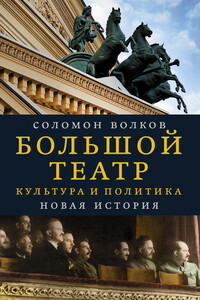Шостакович и Сталин - художник и царь | страница 78
В сокровенном дневнике жившего в одном городе с Шостаковичем художественного критика Николая Пунина, довольно быстро раскусившего карательную сущность советского режима, можно найти следующую в высшей степени показательную запись от 18 июля 1925 года: «Расстреляны лицеисты. Говорят, 52 человека, остальные сосланы, имущество, вплоть до детских игрушек и зимних вещей, конфисковано. О расстреле нет официальных сообщений; в городе, конечно, все об этом знают, по крайней мере в тех кругах, с которыми мне приходится соприкасаться: в среде служащей интеллигенции. Говорят об этом с ужасом и отвращением, но без удивления и
174 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОВИЧ И СТАЛИН
• 175
настоящего возмущения. Так говорят, как будто иначе и быть не могло… Чувствуется, что скоро об этом забудут… Великое отупение и край усталости».
Учитывая все это, следует скорее удивляться не нескольким сугубо «правоверным» кускам в письмах молодого Шостаковича – письмах, которые, как он не без основания полагал, властями перлюстрировались, а обилию непроизвольно прорывавшихся в них непочтительных и насмешливых замечаний в адрес официальной идеологии. Б обстановке насаждавшегося сверху культа Ленина, разросшегося до небывалых размеров после смерти вождя в 1924 году, особенно рискованной выглядит любимая Митина шутка: он упорно называет «Ильичом» (как умильно именовали Ленина в официальной печати) Петра Ильича Чайковского. В письме к Гливенко Шостакович возмущается тем, что Петроград переименовали в Ленинград; он саркастически называет город Санкт-Ленинбургом.
В письме к Яворскому Шостакович иронически сравнивает обязательное для аспирантов консерватории изучение «марксистской методологии» в музыке с упраздненным предметом Закона Божьего и уморительно описывает свое вызывающе издевательское поведение на экзамене по этой самой «марк-
систской методологии». В связи с этим композитор прямо пишет о своей «политнеблагона-дежности». (Замечу, что в мое студенческое время, несравненно более «вегетарианские» 60-е годы, немногие – особенно в сравнительно конформистской музыкантской среде – осмелились бы высказываться подобным еретическим образом в частной переписке.)
В этом контексте естественно предположить, что Шостакович рассматривал приспособленческий финал Второй симфонии как вынужденный компромисс. Это подтверждается и тем, что, еще даже не успев закончить «официозную» симфонию, композитор в 1927 году как одержимый начал работу над полярно противоположной по идеологии оперой «Нос» (по Гоголю). Тут следует подчеркнуть, что – в отличие от «Посвящения Октябрю» – эта опера не являлась заказным произведением и буквально вырвалась из-под пера композитора. Учитывая и объем работы, и ее тему, то был смелый шаг.