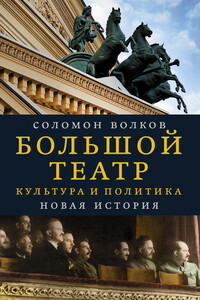Шостакович и Сталин - художник и царь | страница 76
этого мистического автора призывными фразами у медных духовых несколько неожиданно соседствуют с эпатажным 13-голосным линеарным «немецким» куском, предвещающим оперу «Нос», и лирическими моментами, характерными для более поздних симфоний Шостаковича.
Перелистывать страницы партитуры Второй симфонии – все равно что без разрешения заглянуть через плечо композитора, когда он колдует над пробирками в своей алхимической лаборатории. То, что менее одаренные авторы посчитали бы своей огромной удачей, в контексте последующего творчества Шостаковича иногда оборачивается всего лишь пробой пера. Особенно проблематично звучит хоровой финал. Его предваряет сенсационное нововведение – звук фабричного гудка, включенный в «Посвящение Октябрю» по предложению Шульгина. Затем вступает хор, меланхолично, почти уныло распевающий «идейно правильные» вирши комсомольца Безымен-ского. Тут были перлы, над которыми не преминул бы вволю поиздеваться и сам Маяковский: «О Ленин! Ты выковал волю страданья, ты выковал волю мозолистых рук». Сардонический комментарий самого Шостаковича был краток: «Voila».
В музыке хора отсутствуют столь типич-
170 •
СОЛОМОН ВОЛКОВ
ШОСТАКОБИЧ И СТАЛИН
• 171
ные для Шостаковича впоследствии напор и убежденность. Очевидно, что это – скорее формальный довесок к сочинению, которое и так не отличалось особой конструктивной убедительностью. Доверительно сообщив Яворскому: «Хор сочиняю с большим трудом. Слова!!!» – Шостакович так и не сумел воспламенить своего воображения, а посему последние «кульминационные» слова текста – «Вот знамя, вот имя живых поколений: Октябрь, Коммуна и Ленин» – композитором вообще не распеты, хор их просто скандирует. Последние такты этого опуса звучат как формульный ходульный апофеоз.
Неудача с официозными стихами Безы-менского подтверждает, что «Посвящение Октябрю» было для Шостаковича «работой по найму». Понимание этого неоспоримого факта помогает решительно пересмотреть популярную до сих пор схему идеологического развития молодого Шостаковича. Многие биографы композитора считают, что его Вторая (а затем и Третья «Первомайская») симфонии свидетельствуют о просоветском идеализме их автора, лишь впоследствии сменившемся горьким разочарованием. Эту теорию анализ музыки не подтверждает. Болезненно ясно, что просоветский пафос текста Безы-менского оставил Шостаковича равнодуш-
ным; редко когда в последующем творчестве его музыка столь же формальна.