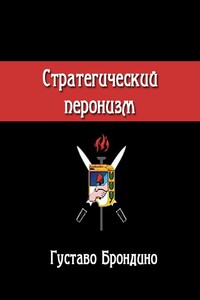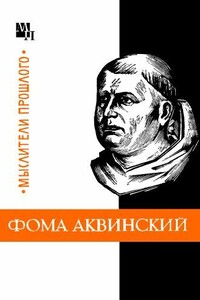Непостижимое (Онтологическое введение в философию религии) | страница 68
Непостижимое - то, что недоступно познанию, - должно, очевидно, лежать по ту сторону отрицания, находиться за его пределами. Но как же в таком случае оно может быть определено и познано именно как непостижимое?
Ближайший ответ на это должен быть, очевидно, таков. Если всякое определение и познание основывается на отрицании, то это, очевидно, должно иметь место и здесь; но только здесь отрицание должно очевидно выступать и функционировать как потенцированное отрицание - именно, как отрицание самого отрицания. Ибо когда мы говорим, что непостижимое лежит вне пределов отрицания, что отрицание к нему неприменимо, - и даже когда мы просто выражаем его в слове "непостижимое", мы определяем при этом то, что мы мыслим, очевидно, также через момент "не"; но только это "не" направлено здесь на само "не". В этом и заключается поистине безграничная сила отрицания, что оно сохраняет силу, даже направляясь на само себя, на начало, его конституирующее. И если отрицание единичного отрицания, т.е. какого-либо отрицаемого отдельного содержания, - как бы суммирование двух отрицаний типа суждения "A не есть не-A" - согласно началу "исключенного третьего", не ведет ни к чему новому, а только завершает подлинную, окончательную положительность содержания, которое впервые конституируется именно через отрицание того, что содержит его отрицание (так что А есть именно то, что не есть не-А), - то отрицание самого отрицания, начала отрицания потенцированное отрицание вводит нас в совершенно новую область бытия. Впрочем, то и другое - двойное, суммированное отрицание, конституирующее определенность, и отрицание самого отрицания (потенцированное отрицание) находятся в теснейшей связи между собой. Если мы выше (в гл. I) убедились, что определенность возникает - именно через посредство двойного отрицания, в силу того, что оно воспринимается как "такое, а не иное", - из металогического единства и немыслимо вне связи с последним, то теперь мы можем выразить то же соотношение в той форме, что все определенное, в качестве "такого, а не иного", предполагает саму категориальную форму "неинаковости" ("non aliud", в котором Николай Кузанский усматривает высшее формирующее начало знания и бытияlxiii). Но сама эта "неинаковость" и есть не что иное, как раскрывшееся нам непостижимое, которое мы улавливаем и познаем именно тем путем, что отрицаем в отношении его отрицание. Именно таким способом, очевидно, непостижимое постригается как таковое, неопределенное определяется именно как неопределенное. Если все определенное как таковое утверждено на начале "либо одно, либо другое" ("aut-aut", "entweder-oder") - на выборе между "одним" и "другим", на отвержении одного в пользу другого или предпочтении одного за счет другого, то мы отрицаем теперь само это начало "либо-либо" и заменяем его, тем самым, началом "и то, и другое" ("sowohl - als auch"). Тогда мы именно и имеем непостижимое как всеобъемлющую полноту, как бесконечное - в отличие от всего определенного, которое как таковое есть ограниченное, исключающее из себя все иное, как бы изгоняющее и отталкивающее его от себя. В этом представлении "непостижимого" как безграничной, всеобъемлющей полноты непостижимое является нам не в пустом бессодержательном смысле, как то, о чем ничего нельзя высказать, а в полновесном положительном своем значении. И то, что нам казалось простым неведением, оказывается особым родом ведения, и притом как раз самым глубоким и адекватным ведениемlxiv.