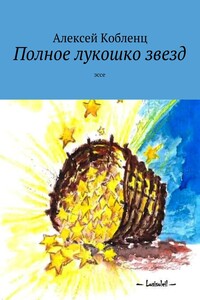Проза и эссе | страница 69
Отбрасывание лишнего, само по себе, есть первый крик поэзии — начало преобладания звука над действительностью, сущности над существованием: источник трагедийного сознания. По этой стезе Цветаева прошла дальше всех в русской и, похоже, в мировой литературе. В русской, во всяком случае, она заняла место чрезвычайно отдельное от всех — включая самых замечательных — современников, отгородившись от них стеной, сложенной из отброшенного лишнего. Единственный, кто оказывается с ней рядом — и, прежде всего, именно как прозаик, — это Осип Мандельштам. Параллелизм Цветаевой и Мандельштама как прозаиков и в самом деле замечателен: «Шум времени» и «Египетская марка» могут быть приравнены к «Автобиографической прозе», «Статьи о поэзии» и «Разговор о Данте» — к цветаевским литературным эссе и «Поездка в Армению» и «Четвертая проза» — к «Страницам из дневника». Стилистическое сходство — внесюжетность, ретроспективность, языковая и метафорическая спрессованность — очевидно даже более, чем жанровое, тематическое, хотя Мандельштам и несколько более традиционен.
Было бы, однако, ошибкой объяснять эту стилистическую и жанровую близость сходством биографий двух авторов или общим климатом эпохи. Биографии никогда наперед неизвестны, также как «климат» и «эпоха» — понятия сугубо периодические. Основным элементом сходства прозаических произведений Цветаевой и Мандельштама является их чисто лингвистическая перенасыщенность, воспринимаемая как перенасыщенность эмоциональная, нередко таковую отражающая. По «густоте» письма, по образной плотности, по динамике фразы они настолько близки, что можно заподозрить если не кровные узы, то кружковщину, принадлежность к общему — изму. Но если Мандельштам и был акмеистом, Цветаева никогда ни к какой группе не принадлежала, и даже наиболее отважные из ее критиков не сподобились нацепить на нее ярлык. Разгадка сходства Цветаевой и Мандельштама в прозе находится там же, где находится причина их различия как поэтов: в их отношении к языку, точнее — в степенях их зависимости от оного.
Поэзия это не «лучшие слова в лучшем порядке», это — высшая форма существования языка. Чисто технически, конечно, она сводится к размещению слов с наибольшим удельным весом в наиболее эффективной и внешне неизбежной последовательности. В идеале же — это именно отрицание языком своей массы и законов тяготения, это устремление языка вверх — или в сторону — к тому началу, в котором было Слово. Во всяком случае, это — движение языка в до (над) жанровые области, т. е. в те сферы, откуда он взялся. Кажущиеся наиболее искусственными формы организации поэтической речи — терцины, секстины, децимы и т. п. — на самом деле всего лишь естественная многократная, со всеми подробностями, разработка воспоследовавшего за начальным Словом эха. Поэтому Мандельштам, как поэт внешне более формальный, чем Цветаева, нуждался в избавляющей его от эха, от власти повторного звука, прозе ничуть не меньше, чем она с ее внестрофическим — вообще внестиховым — мышлением, чья главная сила в придаточном предложении, в корневой диалектике.