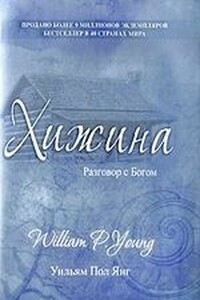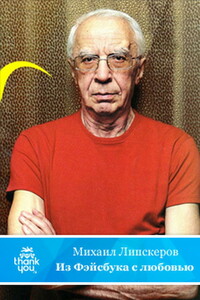Рождественская шкатулка | страница 16
Впрочем, в ту ночь я узнал, откуда исходят звуки колыбельной.
Я сел на постели, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. В ящике ночного столика лежал фонарик. Я взял фонарик, надел халат, тихо выскользнул из комнаты и пошел на звуки музыки. Остановившись возле детской, я заглянул туда. Звуки не потревожили Дженну, она безмятежно спала. Я вышел в коридор и добрался до двери, ведущей на чердачную лестницу. Как ни странно, звуки доносились оттуда. Я открыл дверь и, стараясь ступать бесшумно, поднялся на чердак. Луч фонарика выхватывал из темноты силуэты предметов, и от них ползли длинные страшные тени. Чердак был таким, каким и надлежало быть чердаку, если не считать звуков музыки. Но откуда же они исходят? Мое сердце колотилось все быстрее. Вдруг я заметил, что пыльное покрывало сброшено с колыбели и лежит на полу. Мое волнение усилилось. Я направил луч фонарика туда, откуда доносились звуки… Что такое? Да это же рождественская шкатулка, которую мы с Барри нашли, когда заносили сюда мебель! Я стал припоминать все, что знал о рождественских шкатулках. Может, это особый, редкий экземпляр, куда встроен музыкальный механизм? Но почему вдруг он заработал посреди ночи? Оглянувшись по сторонам и убедившись, что на чердаке никого нет, я пристроил фонарик так, чтобы он светил вверх. Освободив руки, я осторожно взял шкатулку и начал осматривать ее в поисках рычажка, позволяющего остановить музыку. Но тяжелая пыльная шкатулка ничуть не изменилась с того момента, когда мы с Барри впервые ее увидели. Ни тогда, ни сейчас у нее не было никаких рычажков, кнопок или отверстий для ключа. И никаких намеков на музыкальный механизм. Обыкновенная деревянная шкатулка, только очень искусно сработанная. Мне оставалось лишь одно — открыть шкатулку. Я так и сделал — расстегнул оба ремешка и осторожно поднял крышку. Музыка смолкла. Я направил луч фонарика внутрь шкатулки. Там лежали какие-то бумаги. Я достал самую верхнюю. Это было письмо, написанное от руки. Бумага от времени пожелтела и стала хрупкой. Я посветил на нее фонариком. Письмо было написано красивым ровным почерком.
6 декабря 1914 г.
Любовь моя!
Я замер. С детства во мне воспитывали уважение к частной жизни других людей. Недопустимость чтения чужих писем я считал аксиомой, не имевшей исключений. Но почему сейчас я был готов переступить через свои принципы и прочесть то, что адресовано не мне? Возможно, письмо скрывало какую-то тайну, но разве это давало мне право вторгаться в чужую жизнь? Тем не менее угрызения совести уступили под натиском любопытства, и я прочитал письмо от начала до конца.