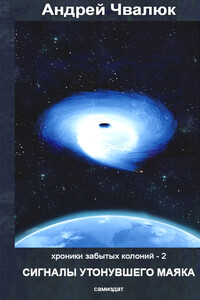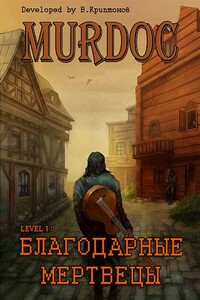Тринадцатая пуля | страница 37
Преданные друзья, а они, слава Богу, у неудавшегося киноактера были, видя этот, увы, традиционный для России поворот в судьбе своего товарища, не оставили его в беде и путем наисложнейших комбинаций сумели пристроить косоглазого двойника поэта директором одного из московских рынков, отдалив таким образом неизбежное бомжевание дегустатора.
Пил бывший артист мастерски. Вытянув трубочкой полные, почти женские, губы, он, не торопясь, со вкусом выцеживал полный фужер водки. Потом пластичным — чисто актерским (школа!) — движением, отклячив мизинец, уводил осушенный сосуд в сторону, с шумом вбирал в легкие воздух, и, жмурясь, как кот, благосклонно и доброжелательно оглядывал соседей.
Свои радостные эволюции он сопровождал продолжительным, сладострастным кряхтением, похожим на звуки, которые издает — сельский житель знает — только что отелившаяся корова.
Елеем заплывали его смотрящие в разные стороны глаза; умиротворенный счастливец с плотоядным хрустом закусывал маринованным огурчиком или какой-нибудь иной соленой дрянью и опять жмурился, как кот.
Взгляд отдыхал на этом жизнелюбце. Им было просто нельзя не любоваться.
Увлекшись созерцанием оптимиста, я совершенно забыл о декламаторе. А тот с упоением несся вперед — в волшебные поэтические дали, по стихотворным волнам собственного вдохновения:
Уходит Старый год, уходит.
Что Новый год нам принесет?
Быть может, за нос нас поводит?
Или — к удаче приведет?
Актер еще трепал вслух всю эту псевдопоэтическую галиматью, когда я правым ухом уловил восторженный голос:
— Надсон… О Надсон, Надсон… На-а-ад… со-о-н!..
Скосив глаза, я разглядел рыжую носатую старуху в бриллиантах, которая, театрально заламывая руки, с обожанием взирала на декламатора.
— Нансен? Это, который Нансен?.. — деловито осведомилась ее соседка, бойкая смазливая толстушка. — Ах, знаю, знаю! Нансен! Фритьоф Нансен, он еще на Северном полюсе собаку ел. Фу, какая гадость! Вот не знала, что он стихами баловался!..
— Да не Нансен, а Надсон! Поэт Серебряного века, дура! — со злобой прошипела бриллиантовая старушенция.
— Сама ты дура! Подумаешь, Надсон! Очень мне надо помнить какого-то еврея!
— И вовсе это никакой не Надсон, — глодая баранью кость, сказал бритоголовый бравый полковник, — это он сам, знаю из достоверных источников, он сам, на даче у себя, в Кучино… Да, на даче! А дача у него там, закачаешься, знаю из достоверных источников! Шесть этажей! Четыре этажа вверх, два — вниз. Фонтан во дворе! И всюду роскошь! Лежал он как-то в гамаке после скотски сытного обеда, пожрать он любит, знаю из достоверных источников, и так, от лени, от нечего делать, взял, да и сочинил всю эту муру. И читает нам сейчас трагическим голосом, прямо Шекспир какой-то! Тьфу! А записывал эту свою муру он под патефон… а патефон у него, знаете, коллекционный, трофейный, немецкий, говорят, взятый нашими солдатами в конце войны из ихней рейхсканцелярии. Под этот, значит, патефон, там, в рейхсканцелярии в мае сорок пятого пьяный Геринг с трезвым Риббентропом отчебучивал "танец с саблями", это точно! — знаю из достоверных источников! А теперь вражеский патефон этот дурак заводит у себя на даче. И знаете, что он любит больше всего? У самова-а-а-р-а-а я и мо-о-о-я-я Ма-а-а-ша-а-а… — последние слова, дирижируя бараньей костью, лысый милитарист громко прогнусавил ненатуральным, на редкость противным, голосом, заговорщицки подмигивая и явно нарываясь на скандал.