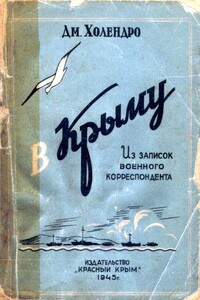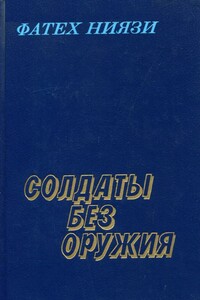Жестокое милосердие | страница 87
— Кто старший?! — раздраженно спросил обер-лейтенант.
— Я, господин офицер! — лениво поднялся из-за своего укрытия один из пулеметчиков. — Обер-ефрейтор Дирбахт.
— Сколько вас?
— Двое.
— Оба направляетесь на усиление охраны паровоза. Пулемет оставить. На платформе остаюсь я со своими солдатами.
— Яволь, господин обер-лейтенант, — только теперь рассмотрел его погоны обер-ефрейтор. — Хотя мы получили приказ ни в коем случае…
— А то, что вы услышали только что, — не приказ?! — прорычал обер-лейтенант. — По прибытии в часть, двое суток ареста! Освободить платформу!
Выстрелы, прозвучавшие вслед за этим в лесной тиши, вспугнули огромную стаю ворон. Когда она взлетела, показалось, что это поднимается в едва освещенное лунным сиянием поднебесье огромная крона дерева.
— Подобрать боеприпасы. Корбач — к пулемету, — командовал Беркут, оглядываясь по сторонам. — Нужно продержаться на эшелоне до пяти утра. На рассвете уйдем.
Но до рассвета еще нужно было дожить. До него еще нужно было дойти через насквозь простреленную тревогами, незаговоренную судьбой, распятую на колоколах войны осеннюю ночь.
25
Немец, которого Беркут сумел сразить в первые же минуты боя, все еще висел, зажатый под мышками двумя упругими ветками дуба, и каждый раз, когда вспыхивала перестрелка, несколько пуль он обязательно принимал на себя, превратившись в раскачивающуюся на осеннем ветру мишень.
Лейтенант подполз к дереву ближе всех, и вырванные пулями кровавые комки тела убитого время от времени ложились у его головы, словно падали с неба.
Чуть выше убитого завис на сучке его карабин. Стоило пуле попасть в тело, как ветки расшатывались, приклад карабина ударял о каску немца, и тогда над каменистым ущельем, в котором фронтовая судьба свела партизан и пятерых немцев, зарождался глухой похоронный звон.
Та часть площадки, где залегла группа Беркута, была настолько ровной и так простреливалась, что, казалось, невозможно было поднять голову. Но каждый раз, когда раздавался этот звон, лейтенант все же пробовал оторвать подбородок от заиндевевшей каменной плиты и хотя бы мельком взглянуть на зависшего на дереве «архангела войны», словно сошедшего с неба специально для того, чтобы стать вещим знамением смерти.
Если Андрею это удавалось, он вспоминал надпись, выжженную раскаленным прутом у подножия сельского «Распятия»: «Жизнь — есть жестокое милосердие Божье». И повторял ее, как заклинание, уже однажды спасшее ему жизнь. Заклинание, в которое с той поры свято верил.