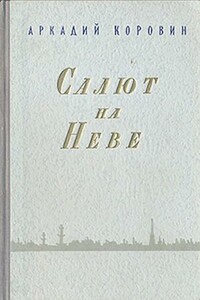Жестокое милосердие | страница 76
— Оставь человека в покое, дай поесть, — попытался урезонить его Звездослав, но этим лишь раззадорил ефрейтора.
— Это ж какой расход продовольствия допускает лейтенант! — говорил он так, чтобы Беркут мог слышать каждое его слово. — Его за это судить надо. Но мне не жалко, жри. Хотя, если дать волю, через сутки ты оставишь нас на сухарях.
Зная сербскохорватский, Гольвег наверняка улавливал смысл этого словесного потока, но он не производил на шарфюрера никакого впечатления. Всем своим видом тот словно говорил Арзамасцеву: «Раз лейтенант приказал кормить, значит, убивать не собирается! А с тобой дела не имею».
«Нет, — размышлял лейтенант, наблюдая эту затянувшуюся сценку, — в конечном итоге бороться нужно не со слабовольными, не с предателями, не с людьми, выдающими какие-то тайны, чтобы получить право вернуться домой, а с самими войнами. Презрение к предателям зарождается прежде всего у людей, не сумевших презреть войну. Задумываются ли они над этим? — обвел он взглядом сидящих вокруг "цыганского стола". — И вообще, о чем думает сейчас каждый из них? Как воспринимают все, что происходит с ними в эти дни? Неужели все их восприятие сведено к самой простой схеме: врага убить, предателя казнить, пусть все вокруг погибнет, но я должен выжить, во что бы то ни стало выжить?!»
…Впрочем, почему все? Вон, Орчик… Старик сидел на каменистой возвышенности, в стороне от других, обняв свой карабин и, кажется, так и не притронулся к бутербродам. Выпив свою порцию шнапса, он устроился так, чтобы оставаться позади шарфюрера, ибо еще с прошлой стоянки присвоил себе право быть бессменным часовым. Так вот, для Орчика вопрос может стоять по-иному: «Ради чего жить? Что произошло со мной и со всеми нами? Потеряв сына и став убийцей невинного человека, не врага, да к тому же своего, поляка, я не имею права пережить войну».
В последнее время Беркут все чаще ловил себя на том, что пытается осмыслить причины возникновения этой войны и понять ее смысл. Что он все пристальнее присматривается к каждому человеку, с которым сводит его судьба на партизанских дорогах, стремясь постичь сущность храбрости и страха, понять истоки патриотизма и крайней отрешенности от каких-либо обязательств перед народом и армией; понять и объяснить любой более или менее важный поступок.
А ведь в начале войны он был другим: поменьше чувств, минимум эмоций, исключительная нацеленность на бой. И неприкрытое презрение к человеческим страстям, слабостям, растерянности, паникерству.