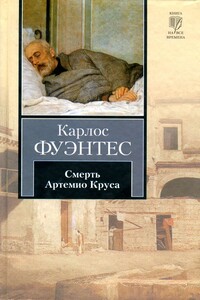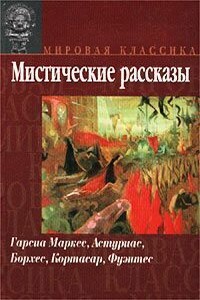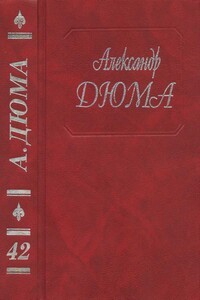Старый гринго | страница 9
В небе кружили стервятники-сопилоты. Старый гринго посмотрел вверх. Но тут же перевел взгляд вниз: змеи и скорпионы жалят только чужаков. Им все равно, кто и зачем едет. Он поднимал и опускал голову в немом удивлении. Мимо стрелой проносились печальные голуби со скорбными криками, куда-то неспешно летел скиталец-сокол. Шум крыльев в высоком воздухе походил на шелест сухих, ломких трав.
Он закрыл глаза, но ходу не прибавил.
И тогда пустыня ему сказала, что смерть — это всего лишь приостановка действия законов природы: жизнь — правило игры, а не исключение, и даже пустыня, казавшаяся безлюдной, таит в себе всякого рода жизнь, утверждающую, порождающую или воспроизводящую законы человеческого существования. Он не мог не подчиниться, даже против своей воли, жизненному императиву первозданной природы, к которой пришел сам, без чьей-либо указки: мол, отправляйся-ка, старый гринго, в пустыню.
Пески уже уступают место зарослям кустарника меските. Линия горизонта колеблется, поднимается почти до уровня глаз. Жесткие тени туч огромными пятнами ползут по земле. От земли поднимается терпкий запах. Широкая радуга раскалывается надвое, будто видит себя в зеркале. На корявых веточках бисторты зажигаются желтые соцветия. Дует жаркий ветер-суховей.
Старый гринго кашляет, прикрывает лицо черным шарфом. Кашель рвется из него, как те волны, что однажды схлынули с земли и сотворили пустыню. Тяжелое дыхание клокочет у него в груди, как сок в стеблях тарая, растущего возле скудных рек и жадно сосущего влагу.
Он останавливается, задыхаясь от астмы; с трудом сползает с седла, хватает ртом воздух и бессильно приникает лбом к крупу лошади. И все-таки твердит:
— Моя судьба — это моя судьба.
IV
Иносенсио Мансальво сказал, завидев всадника, въезжающего в лагерь:
— Этот человек приехал сюда помирать.
Мальчишке Педро было всего лишь одиннадцать лет, и не пристало ему лезть с расспросами к Иносенсио, знаменитому вояке из Торреона, что в штате Коауила, хотя парень ничего не понял из сказанного. Правда, после этого стал еще больше восхищаться Мансальво. Если Иносенсио Мансальво мог в бою семерых уложить, то предсказывать чужую судьбу куда труднее. Хотя этот старый гринго, ух, как храбро дрался тогда под Чиуауа — и ничего, жив. Наверное, Мансальво сразу разгадал в нем храбреца, который сам под пули лезет, и потому сказал то, что сказал.
— Этот гринго торчит на своей кобыле, как свеча в алтаре. Или нас дразнит? Хочет, чтоб его рубанули? Небось знает, что мы его мигом на куски искромсаем?