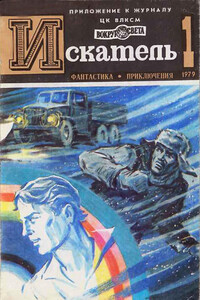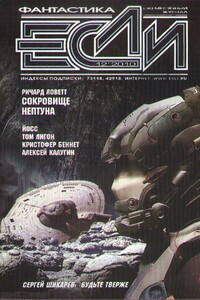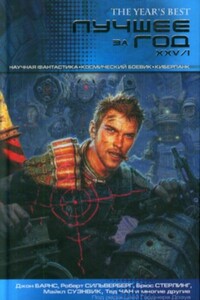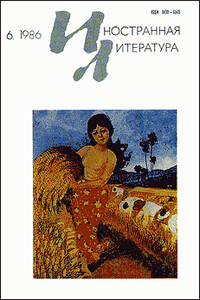Оливье - друг человека | страница 18
Но методика — дело десятое. Если бы на этом свете были только мы с тобой и если бы на нас все кончалось, я бы просто плюнул на все, ни о чем не стал бы беспокоиться и только проявил побольше настойчивости в деле удовлетворения моих духовных и матпотребностей. Но на нас ничего не кончается, а для нас, собак, — с меня все только начинается, и тут я испытываю нечто странное. Разум, казалось бы, самое непогрешимое, что есть во мне, подсказывает мне, что мне нечего заботиться об отношении ко мне последующих поколений, что с моей смертью все для меня кончится и абсолютно все равно, станут ли потом собаки поклоняться моей памяти или, напротив, всякая шавка станет стыдить детей моим именем, а то и хуже: ни одна шавка обо мне просто не вспомнит. И вот, казалось бы, что мне до этого, но я знаю: за тех, кто будет после меня, я отвечаю потому, что я первый. Это я знаю не разумом, хоть без него и не смог бы этого осознать, но без него и проблемы бы не возникло!
И я говорю тебе, я, единственный представитель вида, которому нет и года, говорю тебе, одному из представителей вида, которому миллион лет, — так нельзя.
Вы так привыкли к своей разумности, что ничего, кроме нее, стараетесь в себе не замечать — как же, это ведь то, что отличает вас от животных! Как будто не быть животным само по себе достоинство. Но я вас понимаю: разум — это и вправду здорово, есть от чего закружиться голове и есть от чего потерять ориентацию. Разум, как и всякое иное средство, стремится к переоценке своих достоинств, но способов для этого у него гораздо больше, чем у любой другой составляющей человека, и в результате вы даже в определение вида своего внесли слово: «разумный», как будто каждый из вас не бывает большую часть своей жизни неразумным хуже любой кобылы!
В конце концов, и этим знанием я обязан тебе: ты помнишь нашу беседу о Зине?
«Женюсь я на ней, должно быть…» — сказал ты, и я пришел в ужас — не потому, что она не нравится мне, не потому, что она курит в моем присутствии и на все отвечает: «Еще чего!» и «Что ты мне лапшу на уши вешаешь!». В конце концов, какое мне дело, но ведь и ты не то что любил ее, ты ведь ее терпеть не мог, и вдруг — «женюсь, наверное». В твоих словах не было ни капли разума, а только покорность овцы на бойне, и ты сам это сознавал! Ведь это ты тогда сказал — ужаса моего ты, к счастью, не заметил, и разглагольствовал устало-спокойно: «Разум дан человеку для совершенно определенных целей, говорил ты, — как орудие камерное, с ограниченной областью приложения, и лучшее, что он может, — это указать самому себе границы своих возможностей. Вот инстинкт продолжения рода значительно сильнее и разуму не подконтролен, вообще говоря. Если бы каждый был волен жениться лишь на той, кого он действительно любит — не скажу даже: любить ту, кого он действительно хочет любить; если бы каждый был волен дожидаться своей принцессы, и каждая — своего принца, две трети браков не заключалось бы, а из остальной трети три четверти заключалось бы дураками, которые ошиблись. И будь человек действительно разумен, как он о себе мнит, — так ты сказал! — он бы давно вымер, чего не наблюдается. И в сущности, если бы это не было общим признаком всего живого, то следовало бы говорить не «человек разумный», а «человек размножающийся». А с кем размножаться — с Зиной или не с Зиной, — какая разница? Ибо разум на то и есть в конце концов, чтобы сказать: никаких принцесс нет!»