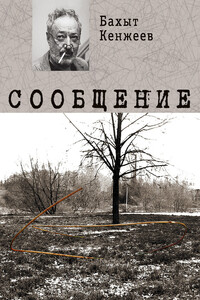Младший брат | страница 42
— А машинка ивановская как?
— Опять же перепечатываю свои вирши почти ежедневно. Хотя бронтозавр, конечно, тот еще. Ей-Богу, хочу, чтобы мне снова стукнуло тридцать лет. Кто я был—нищий. Кто я стал со всеми поступившими подарками—состоятельный, хотя и одинокий молодой человек. Инна! Богатый я жених?
— Дурак ты,—почему-то обиделась Инна.—Дурак и пьянь болотная, зря я тебе купила сегодня эту бутылку. И киргиз чернухинский до сих пор лежит нетронутый.
— Почему нетронутый?—возмутился Андрей.—«И в мороз, и в ненастье,—задекламировал он,—и в туман сине-сизый, власть советская— счастье для простого киргиза. И, вставая из праха, светит ярче, чем солнце, для грузина, казаха, латыша и эстонца...»
— Да почему же «вставая из праха»?—захохотал Марк.
— Ну... Ты зато оцени, каков туман, а? Через несколько минут они уже звонили в дверь большой коммунальной квартиры на Садово-Кудринской. Долго тряс им руки хозяин старческой своей клешней, долго благодарил за простенький торт и пачку чая. Окололитературная молодежь ходила к нему уже несколько лет, почти каждый четверг, не очень понятно, почему. А, впрочем, отчего бы и нет? Был Владимир Михайлович беден, приветлив и терпим. Был он к тому же и настолько одинок, что, как подозревали, только и жил этими четвергами—ну, разве что еще игрой в шахматы по переписке да чтением книг, приносимых доброхотами. Так одинок был этот некогда преуспевающий журналист и преподаватель Литературного института, что в начале шестидесятых годов, вскоре после возвращения его в Москву, нередко видели Владимира Михайловича в потертом костюмчике и жалком галстуке за угловым столиком в буфете ЦДЛ и подносили ему рюмочку-другую, пытаясь вызвать на воспоминания, молодые зубастые литераторы. Но пьянел он слишком быстро, в воспоминания пускаться не любил, и вскоре швейцар попросту перестал пускать его в здание—за исключением, правда, тех случаев, когда тот приходил со своим единственным другом Ароном Штейном, переводчиком восточной поэзии. Через Штейна, кажется, и повадилась к Владимиру Михайловичу молодежь—на вечера, которые кое-кто пышно именовал салонами.
Сегодня ожидался из Ленинграда, прямо с дневного поезда, Алик Костанди, «мэтр», как говорил о нем Андрей, «друг Бродского» и «протеже покойницы Ахматовой». На одиннадцати квадратных метрах жилплощади уже теснились вездесущий Истомин, лирик Жора Паличенко, три тишайшие студенточки с портфелями у ног, некто в окладистой черной бороде, представившийся Давидом, некто в золоченых очках, не представившийся вовсе, зато притащивший три бутылки недурного сухого вина; впрочем, гости продолжали собираться. Отставив в сторону шахматную доску с недоигранным этюдом, Владимир Михайлович расставлял неизменные стаканы и резал торт. А Марк вышел в коридор позвонить по коммунальному телефону Свете. Когда же вернулся, застал в комнате не только долгожданного поэта, но и—увы, увы!—свою ленинградскую Наталью. Не без горечи заметил он, что не только сидит его драгоценная бывшая любовь совсем рядом с протеже покойницы Ахматовой, но и беззастенчиво положила руку ему на колено.