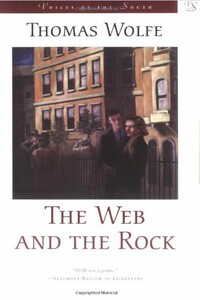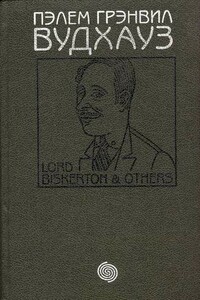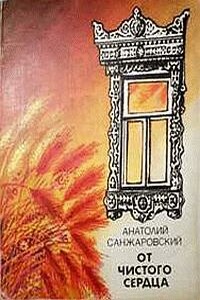Паутина земли | страница 25
А он, сударь, голову закинул да как захохочет. «Жить! — говорит. — Да очень возможно, что он переживет нас обоих!» И, ты знаешь, он ненамного ошибся! Вот, пожалуйста, такой человек, красивый, во цвете лет мужчина, уж кому, кажется, жить да жить, как не ему... врач, которого вызывали к самому Вудро Вильсону, и все такое... Говорили, что он тысячи жизней спас, — а вот приходит его час, и своей он спасти не может! Все возможное и невозможное, как говорится, сделали, чтобы его спасти, все средства медицинской науки, должно быть, перепробовали — бесполезно! — умер и лег в могилу, всего на два года твоего папу пережил. Я, помню, еще сказала Макгайру, когда прочла об этом: «Это показывает только одно, — говорю, — если пробил твой час, тебя ничто не спасет... Не знаю, — говорю, — как вы это называете, но мне давно уже ясно, что есть какая-то высшая сила и уж коли она нас призывает, — говорю, — доктора тут, не доктора, а надо идти». — «Да, — говорит, — вы совершенно правы. Есть там что-то, — говорит, — нам неведомое». И смотри: ему самому всего год оставалось жить — спился и умер, понимаешь, от горя, что эта женщина так с ним поступила. Еще этот негр из больницы рассказывал Люку, что с утра ему операцию делать, а он является туда среди ночи, и до того пьяный, что только на четвереньках может стоять, и ползет по лестнице, словно медведище старый, и негр этот укладывал его в ванну с холодной водой, со льдом, а потом на кровать перетаскивал, и так бывало не раз.
«Да, — доктор Элиот говорит, — я отказываюсь это понимать. Я не знаю, на чем он держится, — говорит, — но вот же живет, и я не хочу делать никаких предсказаний. Он не человек, — говорит, — он четыре человека, и на нынешний день, — говорит, — жизненных сил у него больше, чем у всех нас, вместе взятых». И, конечно, он был прав: до самого последнего дня он мог столько съесть, что другой бы тут же умер — две дюжины сырых устриц, целую курицу жареную, яблочный пирог и два или три кофейника кофе, сударь. И сколько раз я это видела! Со всякими овощами, со сладким картофелем, с кукурузными початками, с молодой фасолью, со шпинатом, со всем на свете. И, конечно, доктор Элиот напрямик сказал: он честно признался, что ничего не понимает. «Но вот что, — он говорит, — вы должны присматривать за ним, пока он не ляжет в больницу. Я хочу, чтобы его привели в порядок до того, как он к нам придет, а поэтому, — говорит, — проследите, чтобы он вел себя как следует». — «Да, — говорю, — думаю, что все будет в порядке. Он же пообещал, понимаете? И мы тоже постараемся. Ладно, — говорю, — а что ему можно есть? Посадить его на диету? Устрицы ему можно?» — спрашиваю. А он, понимаешь, смеется и говорит: «Знаете, я бы сказал, это довольно странная диета для больного человека». — «Понимаете, — говорю, — он так о них мечтает. Он обожает устрицы, — говорю, — вечно вспоминает, как в детстве поедал их дюжинами прямо из раковин. Он так мечтал поесть тут вволю, — говорю, — что просто боюсь его огорчать». — «Ну ладно, — говорит Уэйд Элиот и, понимаешь, смеется, — пусть его ест. Не умрет он от этого, но вот что! — говорит и смотрит на меня серьезно. — Меня не так волнует, что он ест, как то, что он пьет. И пить вы ему не давайте. Я, — говорит, — не хочу заниматься его вытрезвлением, когда он к нам ляжет. Вселите, — говорит, — в него страх божий. Я вас знаю, — говорит, — вы это умеете. И скажите ему, — говорит, — что еще один запой — и живым ему домой не вернуться. Скажите ему, что это мои слова».