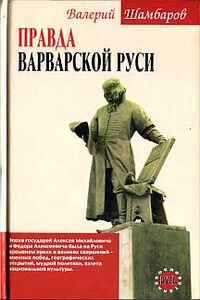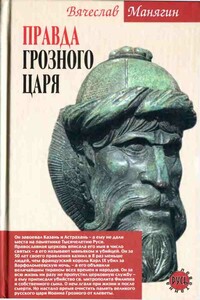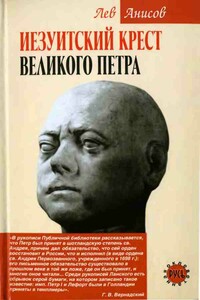Травля русских историков | страница 16
Однако поддержки у еврейской части комиссии точка зрения С. Ф. Платонова не нашла. «Прения интересные, — отмечал в своем дневнике за 17 апреля 1920 года С. М. Дубнов. — Русские члены несомненно верят отчасти в ритуальную легенду, но тщательно скрывают это. Однако и профессор Платонов проговорился о возможности существования тайной секты, совсем в духе Костомарова (Николай Иванович, выдающийся историк. — Б.В.). После долгих трудов удалось выработать модус совместной редакции. Был принят выдвинутый мною принцип: историческая наука не признает ритуальной лжи, а так как наше издание научное, мы должны исходить из этой предпосылки. Скрепя сердце, Блинов и Платонов пошли на уступку»>{59}.
Как видим, очевидная для русских членов комиссии установка на нерешенность вопроса о самой возможности существования ритуальных убийств у отдельных еврейских сектантов-изуверов сразу же была интерпретирована еврейским патриотом С. М. Дубновым как скрытый антисемитизм. Любопытен в этой связи его разговор с одним из уже известных нам русских членов Комиссии В. Г. Дружининым. «После заседания, — пишет он, — подходит ко мне Дружинин и говорит, что его друг, покойный барон Давид Гинцбург, сказал ему по поводу ритуального навета: «А кто его знает! Может быть, у евреев есть неизвестная изуверская секта, совершающая ритуальные убийства». — «Я был поражен», — комментирует заявление В. Г. Дружинина С. М. Дубнов>{60}.
Ничего необычного в размежевании русской и еврейской части комиссии не было. «Какая-то часть еврейства, — проницательно отмечал в 1921 году П. Б. Струве, — не может не рассматривать русскую историю иначе как под углом зрения еврейских погромов»>{61}.
Как бы то ни было, свою часть введения (другую часть должен был писать С. М. Дубнов) к практически уже подготовленному Комиссией к печати первому тому документов так называемого Гродненского ритуального дела 1816 года С. Ф. Платонов так и не написал, и опубликован он так и не был. Как полагает уже современный еврейский историк Савелий Дудаков, «возможно», что и в этом «отчасти был виноват С. Ф. Платонов»>{62}, вновь намекая тем самым на некие антисемитские предрассудки выдающегося русского ученого. В декабре 1920 года Комиссия была закрыта.
В эти годы не прерывалась преподавательская деятельность С. Ф. Платонова в университете и Педагогическом институте. Угроза разрыва научной традиции, общего упадка русской науки, если в результате революции «несколько молодых поколений пройдут, не получив научных интересов и не приобретя навыков научной работы», — вот что, по словам одного из близких друзей С. Ф. Платонова в 1920-е гг. — М. М. Богословского — волновало профессуру в первые послереволюционные годы. Занятия научно-педагогической деятельностью в этих условиях он рассматривал как «научный подвиг, свидетельство гражданского мужества и нравственной зрелости ученого»