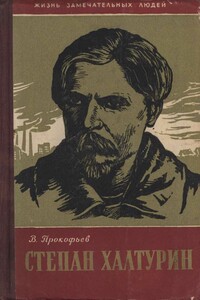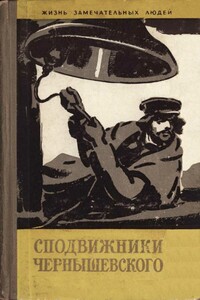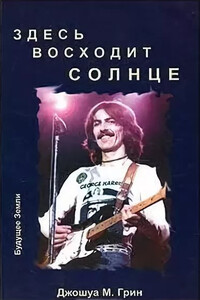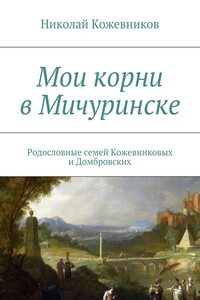Герцен | страница 7
Дети всегда дети, в какой бы семье они ни родились — в боярских чертогах или в похилившейся избе. В барских комнатах заливистый смех кажется даже более естественным, в избе дети рано познают нужду, неволю, и им уже не до смеха. Но в доме Ивана Алексеевича громко смеяться считалось неприличным. Можно было улыбаться. Сам Яковлев всегда насмешничал, но никогда не смеялся. Сына своего, Александра, Иван Алексеевич хотя и «любил безмерно», но мера была — сын должен оставаться почтительным, послушным, вести себя строго в рамках этикета. И не дай бог, если шаловливому, пылкому, непоседливому мальчишке захочется по-детски пооткровенничать — немедля детская шалость, взволнованная речь прерывались холодным поучением. В раннем детстве эти нотации порождали страх, позже — возмущение.
Герцен не стал сухарем, рабом этикета, а вот Егор Иванович был сломлен отцом. «Внешняя покорность, внутренний бунт и утайка мысли, чувства, поступка, — вот путь, по которому прошло детство, отрочество, даже юность». Это слова Николая Огарева, это его приговор своему детству. Но они целиком применимы и к Герцену.
«Корчевская кузина» сохранила для нас портрет и чутко схваченные черты характера расстающегося с детством Герцена. «Это был ребенок худой, бледный, с редкими, длинными белокурыми волосами, с большими темно-серыми глазами, в которых порой блестели искры и рано засветилась мысль. Невзирая на его чрезмерную живость, он редко улыбался, шалил, ломал, шумел серьезно, как бы делая дело. Часто, бросивши игрушки, он останавливал взор на одном предмете и как бы вдумывался во что-то. Чувствуя нерасположение к себе родных со стороны отца своего, несмотря на их видимое внимание, он и сам их не любил и старался избегать их присутствия». «Все видели в Шушке только баловня, — пишет та же Пассек, — из которого не будет никакого толка, но никто не умел из-за баловства рассмотреть, сколько ума, добродушного юмора и нежности было в этом ребенке. Никто не обратил внимания на врожденные ему чувства деликатности и человечности, которые, невзирая на эгоистическую, полную деспотизма среду, в которой он рос и развивался и в которой мог быть первым деспотом, были в нем так сильны, что он рано почувствовал, а вскоре и понял все отталкивающее окружавшего его мира, сочувствовал всему угнетенному, до слез возмущался несправедливостью, постоянно нуждался в сердечном привете и страстно, беззаветно отдавался чувству дружбы и любви…»