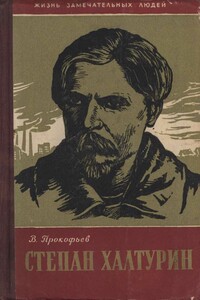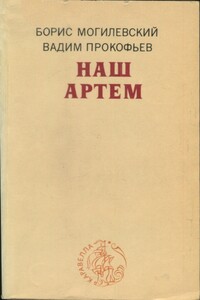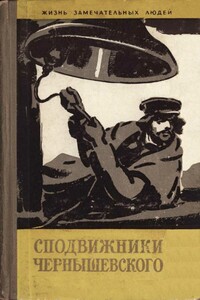Герцен | страница 11
Татьяна Пассек уверяет, что Яковлевы «содержали прислугу довольно хорошо, делом не обременяли». Телесные наказания были явлением редким. И уж если и прибегали к услугам «частного дома», то об этом событии потом целый месяц толковали. И более всех за наказуемого переживал Шушка. А если сдавали в рекруты, что случалось чаще, то Саша «отдавал несчастному все, чем только мог распорядиться».
Подлинным «временем воскресенья» казались Саше летние выезды в деревню. «Я страстно любил деревенскую жизнь. Леса, поля и воля вольная — все это мне было так ново…» Запомнились отъезды в село Васильевское Рузского уезда Московской губернии. Оно досталось Ивану Алексеевичу после раздела с братьями. Чего стоили одни только сборы! Они начинались ранней весной и были столь обстоятельны, что порой, когда наконец завершались, то оказывалось, что и ехать-то поздно, лето на исходе.
Подмосковная деревня, подмосковная природа на всю жизнь остались для Герцена поэтическим символом России. Еще не сознавая умом, он сердцем открывал внутренний мир простого русского человека, а русской природе посвящены самые проникновенные, самые поэтические страницы в герценовских мемуарах, романе, повестях и письмах тоже. Не случайно ценители пейзажной живописи в русской литературе сравнивают страницы «Былого и дум», посвященные Васильевскому, с лучшими элегиями Тургенева.
Шушка подрастал. Детские забавы, «зайцы и векши», уступили место раздумьям. На них толкала прежде всего вся атмосфера отчего дома. И хотя со временем дом в Путниках сменили на дом в Большом Власьевском, в домашнем укладе, в давно сложившемся быту ничего не менялось.
Николай Огарев в «Моей исповеди» очень точно определяет, когда и почему у него на смену детским сказкам пришли размышления. Он считает, что произошло это на пороге девятилетия и побуждала к этой ранней замкнутой работе «в самом себе» удушливая атмосфера их, огаревского, дома. Да иначе и быть не могло. Ни Герцен, ни Огарев в детские годы не имели друзей-сверстников, шумных игр, которые могли бы отвлечь их от внутренней работы мысли. Если передняя и девичья заставляли задумываться над неравенством людей, неравенством необъяснимым, непонятным для открытых детских душ, то разговоры взрослых побуждали искать ответы, пусть еще наивные, на вопросы, которые невольно ставила вся русская действительность.
Герцен в «Былом и думах» больше уделяет внимания рассказу о том, что он наблюдал в передней. Огарев в «Исповеди» говорит о том, как могли запасть в его девятилетнюю голову мысли, которые не приходили на ум и более взрослым.