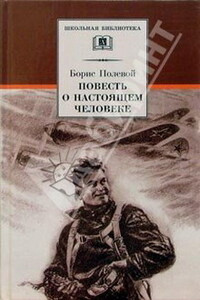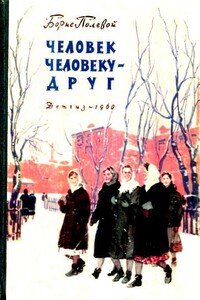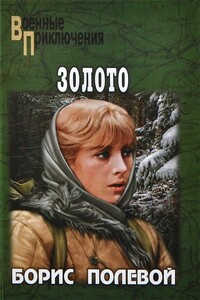Первопроходцы | страница 67
18 июня "Паллас" и "Ясашна" достигли Нижнеколымска, значительного по тем временам поселения — там насчитывалось целых 33 дома, а также деревянная крепость и церковь.
Здесь "Паллас" простоял четыре дня, "Ясашна" — семь суток. Чинили и подправляли суда и пополняли запасы провизии сушеным и соленым мясом, которое по просьбе путешественников было заготовлено юкагирами, проживавшими на берегах Омолоя и Анюя.
Сарычев стремился возможно лучше подготовить свое судно к предстоящему плаванию среди льдов в океане, студеное дыхание которого нередко доносили северные ветры. Пока стояли в Нижнеколымске, погода была тихой, теплой и солнечной. Досаждали лишь комары.
21 июня Сарычев приказал выбирать якорь. "Ясаш-на" оделась парусами и неторопливо заскользила к северу по тихой воде. Вдали виднелись берега Колымы, поросшие редкими кустами ивняка. Затем на смену ивняку пришли трава и мох. Через два дня среди тундры заметили одинокую избу. То было зимовье купца Никиты Шалаурова, который в 1762 году пытался пройти на судне из Лены в Восточный океан, но вблизи устья Колымы был остановлен льдами и зазимовал. Спустя два года Шалауров повторил попытку. Он вышел в море на восток, и там навсегда потерялся его след.
На том же берегу у самого моря на фоне светло-голубого неба виднелся темный силуэт маяка, поставленного более полувека назад Дмитрием Лаптевым, который проплыл на боте из Лены до Колымы, а затем предпринял одну за другой две попытки пройти морем к берегам Камчатки. Дороги ему преградили льды у Большого Баранова Камня. Теперь тем же путем предстояло идти Сарычеву и его товарищам.
"Паллас" дождался "Ясашны" у Лаптевского маяка. Экспедиция собралась в полном составе. Всего лишь несколько миль отделяло путешественников от океана.
Сильный юго-западный ветер развел в устье Колымы большую волну. Неожиданно на судне обнаружилась течь. Оказалось, что выше ватерлинии в одном из пазов выбилась пенька. Это место пришлось замазать салом и обить свинцом.
Около полуночи 24 июня корабли вышли в "Ледовитое море". Вскоре спустился туман. Пришлось бросить якорь и простоять несколько часов в бездействии. Утром легли курсом на восток. Справа виднелся утесистый, гористый берег. Слева до горизонта простиралась вода. Поставили все паруса. Но вскоре пришлось их убирать: в середине дня 25 июня впереди обозначились большие ледяные поля. Сначала решили, что они стоят на мелких местах. Но чем дальше суда уходили на восток, тем ближе к ним приближались эти поля. Было замечено, что под влиянием ветра и течений они движутся от северо-запада к юго-востоку. С каждым часом льдов становилось все больше. Кораблям становилось все труднее пробираться меж льдами. Чтобы спастись от их напора, пришлось приблизиться к берегу и укрыться в устье небольшой речки. Это было тем прискорбнее, что случилось всего лишь в 20 милях к востоку от Колымы. Снова спустился густой туман. Не стало видно ни льдов, ни каменных утесов, ни похожих на застывшие волны увалов на берегу. Вдали над ними возвышался Большой Баранов Камень, тот самый, возле которого были остановлены льдами почти все далекие и близкие их предшественники. Счастье улыбнулось только Федоту Алексееву и Семену Дежневу…