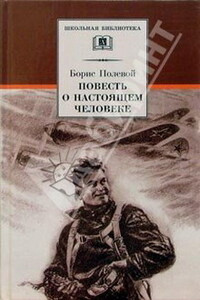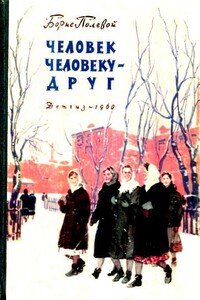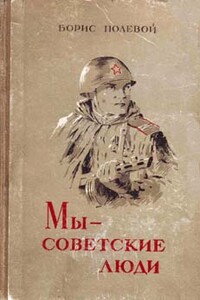Первопроходцы | страница 108
Писатель И.А. Гончаров в таких словах описывает свою встречу с Вениаминовым в середине пятидесятых годов XIX века. "Здесь есть величавые колоссальные патриоты. В Якутске, например, преосвященный Иннокентий,[5] как бы хотелось мне познакомить Вас с ним. Тут бы Вы увидели русские черты лица, русский склад ума и русскую коренную живую речь. Он очень умен, знает много и не подавлен схоластикою, как многие наши духовные, а все потому что кончил не Академию, а в Иркутске и потом прямо пошел учить и религии и жизни алеутов, колош, а теперь учит якутов. Вот он-то патриот".
Известность Вениаминова не пережила бы его время, если бы он был только священником. В далеком краю он явился как представитель русской науки. Им правили не интересы наживы и грубого насилия, а чувства, в корне им противоположные. Вениаминов — прежде всего ученый, и на острова его влекли жажда познания, интерес к духовной культуре населения, к своеобразной природе архипелага и высокие, гуманистические в своей основе идеалы. Он не рассматривал представителей коренного населения островов как "низшую" расу. Крестьянский сын, сибиряк, был близок по духу и настроению к алеутам, и, как то не покажется парадоксальным, по отношению к духовному лицу высокого ранга, близок к простому народу, почти так же, как и его знаменитый земляк, профессор-демократ Щапов.
На Уналашке Вениаминов много и успешно путешествовал. Крепкое сложение, выносливость и неприхотливый к превратностям судьбы и сурового климата характер во многом сближали его с алеутами, коряками, ительменами, тунгусами — древним аборигенным населением тех краев, где ему приходилось бывать и трудиться. А ведь странствия по мало затронутым цивилизацией Алеутским островам, по Камчатке и Якутии отнюдь не были приятными прогулками; говоря современным языком, Вениаминов путешествовал не туристом. Напротив,' чаще всего это были тяжкие переезды по морю в байдарках — тех самых алеутских байдарках, которые в настоящее время являются гордостью лучших музеев мира — Ленинграда, Копенгагена, США.
Но не о своих тяготах писал Вениаминов, вспоминая эти путешествия по морю и по суше; он писал о тех, кто был с ним рядом в те минуты, о сопровождавших его алеутах, коряках, ительменах: "Я, путешествуя с ними из края в край, имел много случаев видеть в подобных обстоятельствах их спокойствие, кроткое, безропотное терпение. Алеут действует хотя и небыстро и даже мешковато, но целый день, или, сказать лучше, до тех пор, пока не выбьется из сил, разумеется, без всякого ропота, хотя бы это было не по его воле. Он не поропщет даже тогда, если после самых тяжких трудов должен будет ночевать в море или мокроте, голодный, без приюта". Это суждение очевидца — ведь Вениаминову не раз приходилось из-за непогоды по нескольку дней голодать вместе с сопровождавшими его алеутами. Ему нередко доводилось совершать длительные, более чем 25-километровые переходы с пудовым грузом на плечах по обледенелым скалам. Подчас дорога совсем терялась. А встречный ветер со снежными шквалами и голодный желудок делали любое движение почти невыносимым. В таких сверхтяжелых условиях, когда на карту была поставлена сама жизнь, алеуты, к восторгу и удивлению Вениаминова, оказывались бодры и даже веселы.