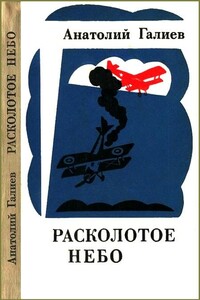Взлетная полоса | страница 16
Маняша веселья не приняла, отвернулась:
— Не темни, Семеныч! Уходите?
— Так это когда еще будет!.. — возразил тот.
Но когда к ней валом повалили все Данины знакомцы и дружки, совали ей под подушку сухари и стали говорить слишком ободрительно и бесшабашно про то, что в жизни всякое бывает, но она, жизнь, есть жизнь, что все у Маняши еще будет хорошо и что ей, в общем, даже повезло (из тифа с победой вылезла), она, похолодев сердцем, поняла: «Ну вот и все!» И еще поняла, что им стыдно оставлять ее в беспомощности, хотя и приказ есть — двигать им в Белоруссию, на западную границу. Переживают же это они слишком виновато и больно, будто в их неизбежном уходе ость что-то от предательства и измены фронтовому товариществу и Даниной памяти. Она попросила, чтобы больше не ходили.
Прощание было коротким и торопливым. Она отвернулась от Нила Семеновича, сделала вид, что устала и дремлет. Если честно, горько было и хотелось выть. Не знала она тогда, как маялись и Глазунов, и Леон Свентицкий, вышедший после Дани в командиры. Уже и все отрядное имущество разместили в теплушках и на платформах, и отнятые у самолетов плоскости закрепили крепче тросами, и ящики накрыли брезентом, и коней завели по вагонам, а они все ходили туда-сюда возле рельсов, думая об одном и том же, молчали, усиленно разглядывая замызганный прикатанный снег.
— А может, заберем ее с собой все-таки, Семеныч? — сказал Леон неуверенно.
— Куда? Медицина ясно режет: лежать ей тут месяца два! Загубим человека одной дорогой!
Маняша лежала дольше. Санитарки выносили ее на руках на весенние травы дышать свежестью, солнечным теплом. Сначала она даже головы, как младенец, держать не умела, плешиветь стала, начавшие было отрастать волосы мертвели, падали, как пух с одуванчика. Но к маю двадцать первого года заблестели провалившиеся желто-карие кошачьи ее глаза, на стриженой голове буйно закурчавились новые, жесткие, с соломенной рыжиной волосы, спать стала меньше. Молодость брала свое. Прокопченная солнцем до смуглой золотистости, она чувствовала, что тело начинает наливаться силой и лежать или сидеть терпения уж нет.
От настоянных на ковылях степных ветров, высокого неба, ярко синевшего над горизонтами, за которыми прятались воды азовских лиманов, хмелела. Примеряясь к неожиданной шаткой, новой земле, путаясь в полах госпитального халата, она часто стала ходить на тот пустырь, где стоял раньше авиаотряд. Смотрела, как местные пацаны пасут комолых коз, как уходят куда-то блескучие полоски рельсов.