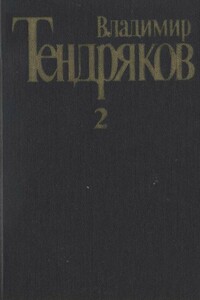Кончина | страница 34
Едва отъехал от села, как на тычках да ухабинах Иван пришел в себя, стал надрывно кричать:
— О-о! До-бей!.. О-о-о! Мочи нет!.. Добей, ради бога!
— Заткнись, контра!
— До-обей, гад!.. Будьте вы все прокляты! Будьте трижды прокляты, сво-о-олочи!!
Вопли и проклятия разносились по темным, сырым, неуютным полям. Евлампий Лыков нахлестывал лошадь.
Оказалось — перебит позвоночник, отнялись ноги. Ивана упрятали в жесткий гипсовый панцирь от паха до подмышек.
Стояли славные солнечные деньки. Из больничного садика лезла в открытое окно яркая весенняя зелень. В селе, должно, суета, дым коромыслом — сев в разгаре.
Идет сев, а ему плевать, понимал — он человек конченый. Ежели даже и вылечат, и ноги снова оживут, то топтать им придется уж не зеленую землю, над которой хотел властвовать, а казенный пол тюрьмы. Попытку поджога ему не простят.
Просил врачей и сиделок:
— Жену пустите.
Просил каждый день:
— Жену…
Другого желания не было.
А его берегли после операции — обращались ласково, мерили температуру, кормили с ложечки теплым бульоном, сходились над койкой по нескольку человек, рассуждали озабоченно. Может, потому и Марусю не допускали — вдруг да сильно разволнуется, не на пользу пойдет. Странный, однако, народ — берегут, чтоб потом в тюрьму упрятать. Наказывали бы сразу, раз контрой стал, чего глупые церемонии разводить, хлопот меньше, да и дешевле.
От безделья лезли в голову покаянные мысли: «Эх, не умно сорвался, на черта их конюшня сдалась, без фокусов рано или поздно убраться мог, живите как хотите, я — сторона…» Но если прикинуть, куда бежать-то, на какие земли? Теперь всюду порядки одинаковы…
— Жену пустите.
Дадут ли поглядеть на родного человека, на единственного?
Дали…
Однажды днем задремал, уставши от пустопорожних мыслей, проснулся от того, что кто-то смотрит в лицо. Открыл глаза и вздрогнул под гипсовой жилеткой — она! Не домашняя, не знакомая, в больничном халате, лицо усохшее, нос острый, в глазах покорное страдание, как у подбитой птицы.
— Ванечка, кровинка моя…
И, словно в яму, стал валиться, потемнел в глазах ясный день. Как сквозь стену, бился пойманной чайкой ее голос:
— Лихо ты мое горькое!.. Да что с тобой?.. О господи! Кто тут? Где доктор-то?..
Но он уже пришел в себя:
— Не надо, не зови никого.
И, не скрывая выступивших слез, сказал счастливо:
— Думал, не увижу никогда.
— Куда я от тебя денусь? На веки вечные веревочкой связаны. Неразлучный ты мой!
Он взял ее грубую, в черных трещинах и ссадинах руку, прижал к небритой щеке: