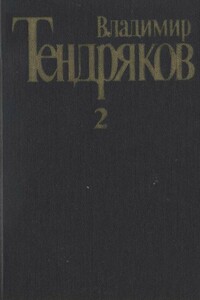Кончина | страница 33
На всякий случай окликнул сколовшимся от волнении голосом:
— Эй, кто тут живой?
Молчание, вздох рабочей коняги.
— Эй, дрыхнете, черти! Максим! Степан! Кто нынче дежурит?
Ворота не заперты, даже чуть приоткрыты, манят черной щелью. Ну и порядочки, любую лошадь уводи в овраг. Конюхи Максим Редькин и Степан Зобов и в будни-то не любят торчать по ночам в конюшне.
Что ж, Иван, неудавшийся вождь села, берись за полуночное дело.
На секунду пришла трезвая мысль: «А не бросить ли, к чертям, затею!» Бросит, унесет с собой ненависть, та станет жечь: был случай, да упустил. Тряпка ты, Иван, потому-то тобой и помыкают.
Где-то тут должно быть сено. Так и есть, неразобранный воз мок под мелким дождем. Разгреб сверху волглое, кисловато пахнущее, добрался до сухого, стал охапками носить под угол, под дверь. Прижатое к лицу сено щекотало ноздри залежалыми покойными запахами тмина и медовой кашки, сохраненными с лета.
Рука сжимает коробок. Одна спичка — и займется, ровный ветер с поля будет нагнетать огонь на бревенчатую стену. А бревна овина старые, выстоявшиеся.
Встал перед сеном на колени, согнулся, прикрывая собой от ветра сложенные лодочкой руки. Ну, с богом…
И рука окостенела на коробке, стиснуло грудь, съежилось до ореха сердце, на ознобленной голове под шапкой вспухли волосы.
За спиной явственно прошуршало, кто-то толкнул дощатые ворота, потревожил брошенное под них сено. Вкрадчивые шаги… Нет сил обернуться. Шаги замерли. Кажется, дышат прямо в затылок. Потная рука с хрустом сдавила коробок…
Хотел вскочить… Обрушилось на спину — похоже, бревно, тупое, тяжелое…
Сено колюче встретило лицо…
Считали: он прозорлив, как никто, видит на пять лет вперед, на аршин под землю. А не рассчитал простого — пьяного праздника боялся и сам председатель Лыков, и раз уж взяли его за душу опасения, то первая мысль — конюшня. Положиться на конюхов нельзя, Максим и Степан отцов родных на смертном одре побросают, коль учуют, что спиртным пахнет.
Евлампий их отпустил — гуляйте, — сам устроился спать на сене в яслях.
Его разбудил окрик:
— Эй, кто тут живой?
Не ответил, стал осторожно выползать из ясель. Можно бы и не осторожничать — кони фыркали и шуршали сеном.
У ворот в углу стояли свежие заготовки для оглобель. Одну из них, еще хрипящую тяжелую влажность живого дерева, Евлампий и опустил на спину Ивана.
Кляня в бога и мать кулацкую сволочь, святую пасху, конюхов, вслепую отыскал дугу, оброть, хомут, чересседельник, вывел лошадь, ощупкой запряг ее, завалил в телегу размякшего, бесчувственного Ивана и повез по непролазной весенней грязи за пятнадцать километров в Вохрово, в больницу.