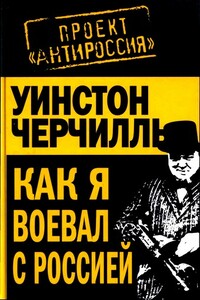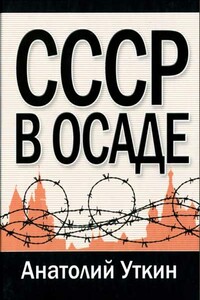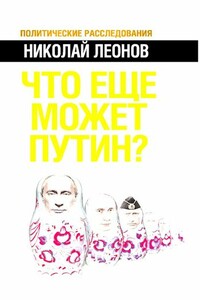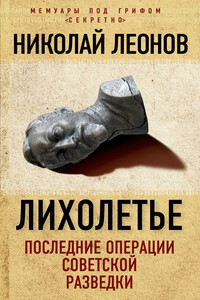Холодная война против России | страница 58
В Афганистане сокрытие правды высшими чинами армейского руководства было распространенным явлением. Мы и в центре, десятки раз обсуждая афганскую войну, не могли понять, каким же образом совместить доклады военных о потерях «бандитов» с реальной численностью формирований моджахедов. По отчетам военных, десятки тысяч участников этих формирований ежегодно погибали в военных операциях, а численность противостоявших нам группировок и отрядов практически не уменьшалась и оставалась, по данным разведки, примерно на одном и том же уровне — 120–150 тыс. человек по всей стране. Оказалось, что использовалась своеобразная система подсчета потерь противника, основанная на расходе собственных боеприпасов. Скажем, сброшено столько-то тонн бомб, выпущено столько-то снарядов, мин, израсходовано энное количество стрелковых боеприпасов — значит, должно быть убито и ранено такое-то количество «супостатов». Просто и «эффективно». Жаль только, что совсем порочно.
По словам наших офицеров-аналитиков, работавших в Кабуле, вся исходная информация о военном положении была порочной изначально. В их распоряжении были доклады военной контрразведки (подчинявшейся КГБ), армейского командования и командования армии Афганистана. Разница в цифрах была в 10–12 раз. «Липа» цвела и благоухала.
Свои потери, чтобы не портить репутацию, раскладывали на месяцы и кварталы, создавая впечатление интенсивности боевых действий и связанной с этим регулярности потерь. Мне рассказывали, что были случаи отправки крупных колонн автомашин с гражданскими и военными грузами без должного военного сопровождения и мер прикрытия. Колонны становились легкой добычей моджахедов, гибли почти целиком. Потери составляли сотни машин, но эти цифры аккуратно раскладывались на длительный период.
Нам давно было известно, что в Москве так и не был решен вопрос, кто же будет главным представителем советского руководства в самом Афганистане, кто будет своего рода военно-политическим руководителем всей кампании. Вопрос не был решен потому, что и в самой Москве никто не знал, кто же несет основную ответственность за афганскую войну. Существовала комиссия ЦК по Афганистану, в которую входили Громыко, Андропов, Устинов и др. Это был типичный по тем временам «коллективный орган безответственности», носивший, по сути дела, консультативный характер, при генеральном секретаре. А практическое каждодневное руководство осуществляли министры по своим линиям, не спрашивая коллег и часто не советуясь с ними. Этим ловко пользовались афганцы, находившие себе покровителей среди ведомственных начальников. Скажем, в течение всех лет войны представители Комитета государственной безопасности ориентировались преимущественно на группировку «Парчам» Народно-демократической партии Афганистана. Эту группировку возглавлял Бабрак Кармаль, стоявший во главе партии и государства. В то же время представители Министерства обороны неизменно симпатизировали «халькистам», потому что подавляющее большинство военного командования афганской армии принадлежало именно к этой группировке.