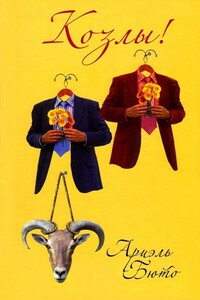Штучки! | страница 39
Розовые скалы обнимали бухточку, словно материнские руки. Семьи складывали полотенца и зонты. Пора идти в душ, наступал час, когда все наводят красоту, и сделать это ничего не стоит: кожа загорелая, лица гладкие, отдохнувшие. Влюбленные прошлепали по воде и остановились, глядя в открытое море, – как будто счастье и удача ждали их где-то там, за бухтой, там, куда море унесло шестилетнюю девочку.
Папа никогда мне этого не простит.
Так и осталось неизвестным, кто первым увидел каноэ. Лодка коснулась берега, и гребец вытащил ее на песок. В глубине лодки виднелся какой-то красный комочек. Неподвижный. Гребец наклонился, и две маленькие ладошки обхватили его шею. Поднялся радостный шум, затем все смешалось – крики, смех, рыдания. Этот человек передал Изабель с рук на руки матери, и отец, ринувшись к ним, сгреб обеих в объятия. Каролина осталась на месте. Только она одна, с высоты своих девяти лет, поняла всю глубину драмы.
Папа никогда мне этого не простит.
Потому что мама уже тогда сделала выбор между человеком, который дал ей этого ребенка, и другим – тем, кто вернул ее девочку. Папа меня так и не простил.
Его бывшая
Доротея. Грузная, тяжелый сосок ввинчен в рот младшенького. Запах выстиранного белья, подушки в клетчатых наволочках – она сама сострочила эти наволочки на швейной машинке, стоящей в гостиной. Детские фотографии над туалетным столиком в спальне, украшенной пластиковыми виноградными лозами. Репродукции дейролевских[8] учебных таблиц на стенах кухни, где собрано все необходимое, от йогуртницы до мороженицы, не говоря уж о вафельнице, – занятиям, которые Доротея проводила по средам, полагалось заканчиваться полдником. Дети лепили фигурки из соленого теста, готовили пиццу, делали марионеток, рисовали пальцами… В книжном шкафу с полным собранием сочинений Дольто[9] и романами Паоло Коэльо соседствовали «Маленький кондитер» и «Ручные работы для дождливых дней», питавшие вдохновение Доротеи. Ей, воспитательнице детского сада, они служили справочными изданиями.
– Дети – мой родник с живой водой.
Доротея говорила это вполне серьезно, без улыбки. Она умела примеряться к уровню ребенка, говорить понятным языком.
– А теперь мама пойдет за хлебушком, он нам нужен для того, чтобы вкусненько пообедать.
Она все объясняла, все повторяла несколько раз, выговаривая слова с чрезмерной отчетливостью, и так старалась быть ласковой и приятной, что в конце концов любая ее интонация становилась несколько фальшивой. Ей было трудно, обращаясь к взрослым, сменить привычный глуповатый тон на какой-нибудь другой, и некоторые из взрослых с трудом его переносили: казалось, Доротея считает их умственно отсталыми. Но те, кому раньше приходилось иметь дело с воспитательницами, знали, что это всего-навсего профессиональная деформация. «Производственная травма», поправляли злые языки.