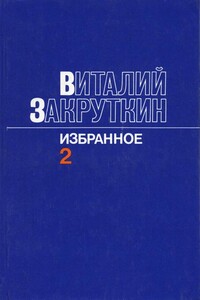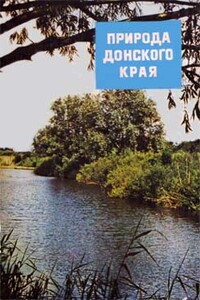От земли к земле | страница 13
Ночевали мы в охотничьих избушках, пили разведенный снегом спирт, ели соленую кету, вяленую оленину и посетили места, которые мне никогда и не снились. Мы встречали семьи тигроловов и медвежатников, охотников на белку и соболя, староверов, молокан, контрабандистов-спиртоносов, лесорубов…
Тайга очаровала меня, постоянно тянула к себе великим своим молчанием, девственной красотой, сиянием снегов, судьбами суровых, мужественных людей. Долгими зимними вечерами я стал писать большую поэму «Тай, тайга» — о том новом, что несла огромному краю на востоке Советская власть. Хотя что-то в этой поэме — в стиле, в манере, в поэтических ритмах — определялось есенинским «Пугачевым», я, проверяя себя, заметил, что уже не так рабски копирую Есенина, что в стихах моих стало пробиваться что-то совсем иное. Видимо, чтение пушкинских стихов и повестей давало себя знать.
Поэму «Тай, тайга» я не решался никуда посылать, с годами охладел к ней и не уничтожил только потому, что она была памятью юности и мне жалко было сжечь свое детище. Это сделали за меня люди господина оберста фон Риделя, гитлеровского офицера, поселившегося в моей покинутой ростовской квартире летом 1942 года.
На Дальнем Востоке мне волей судьбы довелось стать режиссером и драматургом. Дело в том, что завитинский клуб, довольно вместительное деревянное здание с залом человек на триста, просторной сценой и комнатами для занятий различных кружков, как правило, пустовал или использовался только киномеханиками. Вскоре после нашего приезда в Завитую мне и моим новым друзьям удалось сколотить большую группу любителей, которую мы вначале скромно именовали драмкружком, а потом по праву стали называть Завитинским драмколлективом. В группу вошли учителя, телеграфисты, агрономы, работники военкомата, райкома комсомола, машинисты и кочегары железной дороги, домашние хозяйки. Меня, как одного из наиболее активных «учредителей», единодушно избрали художественным руководителем и главным режиссером труппы.
В завитинской книжной лавке я нашел книги Бориса Лавренева, которые купил и прочитал. Тогда же по «Рассказу о простой вещи» я написал пьесу. Она легла в основу нашего первого представления, которое сразу стало сенсацией. Районные руководители пошли нам навстречу, стали выделять деньги на декорации, костюмы, грим. Потом мы перешли на «самоокупаемость», стали ставить платные спектакли на разных станциях, у кивдинских шахтеров, в лесхозах, в таежных поселках. Дело было поставлено хорошо: афиши и программы печатались в типографии, нес роли заучивались назубок, декорациями и реквизитом ведали живописцы-любители, появился у нас и оркестр.