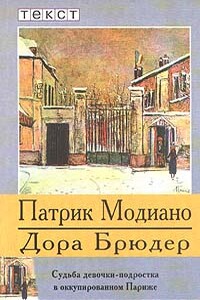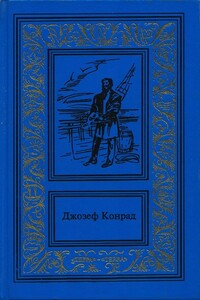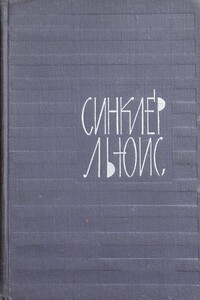Улица Темных Лавок | страница 18
Он начал наигрывать какую-то мелодию, по-моему «На набережных старого Парижа», но из-за гула голосов и взрывов смеха музыка была еле слышна, и даже я, сидя у самого рояля, не все мог уловить. Выпрямившись и чуть склонив голову, он невозмутимо продолжал играть. Мне стало больно за него, ведь было же, наверное, время, когда его слушали. С тех пор ему пришлось, видимо, привыкнуть к этому вечному жужжанию множества голосов, заглушавшему его музыку. Что он скажет, если я произнесу имя Гэй Орловой? Выведет ли оно его хоть на миг из полного безразличия? Или это имя уже ни о чем не может ему напомнить, так же как звуки, которые он извлекает из рояля, бессильны возобладать над гулом голосов?
Бар постепенно опустел. Остались только японец в очках в золотой оправе, я и — в глубине зала — та молодая женщина, которую я видел раньше на коленях у седого господина, теперь она сидела рядом с краснолицым толстяком в голубом костюме. Они говорили по-немецки. Очень громко. Уолдо Блант играл протяжную, хорошо мне знакомую мелодию.
Он обернулся к нам.
— Не угодно ли вам, мадам, месье, чтобы я сыграл что-нибудь по вашему заказу? — спросил он холодно, с легким американским акцентом.
Японец рядом со мной не пошевельнулся. Он сидел неподвижно, с бесстрастным лицом, и мне казалось, что при малейшем сквозняке он свалится с кресла, — ведь наверняка это был просто набальзамированный труп.
— «Sag warum»>[1], пожалуйста, — бросила хриплым голосом женщина из глубины зала.
Блант чуть кивнул и начал играть «Sag warum». Свет в баре приглушили, как в дансингах при первых звуках слоу. Женщина и краснолицый толстяк, воспользовавшись этим, принялись целоваться, рука женщины скользнула за ворот его рубашки, потом ниже. На неподвижном японце поблескивали очки в золотой оправе. У Бланта за роялем был вид подрагивающего робота: мелодия «Sag warum» требует беспрерывных ударных аккордов.
О чем он думал, пока за его спиной краснолицый толстяк гладил ногу блондинки, а набальзамированный японец восседал уже, наверное, не первый день все в том же кресле хилтонского бара? Ни о чем он не думал, я был в этом уверен. Он казался почти недосягаемым в своей отрешенности. Имел ли я право грубо нарушить эту отрешенность, бередить в нем болезненные воспоминания?
Краснолицый толстяк и блондинка вышли из бара, скорее всего, чтобы уединиться в номере. Он тянул ее за руку, и она старалась идти прямо. Мы с японцем остались одни. Блант опять обернулся и произнес своим ледяным тоном: