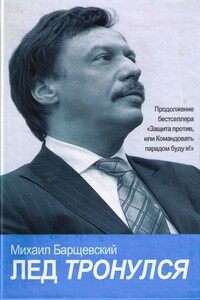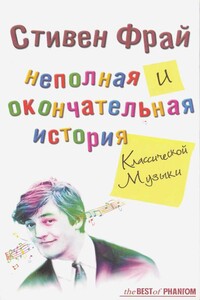Белая кость | страница 4
И только в Константинополе, сняв выгоревшую фуражку, стянув сапоги и босыми ногами ступив на прохладные плиты Софии, он поднял голову в сторону алтаря и с ужасом увидел, что Бог покинул их. Бродя туда и обратно вдоль Босфора по изъеденной временем последней кромке Европы, утыкаясь то в оловянную муть Мраморного моря, то в кишащий рыбным базаром Золотой Рог, он вдруг понял, что заперт в себе самом, откуда выхода нет. Оставалось одно — покончить с тем, каким он был раньше, и начать всё сызнова, словно и не было всех этих долгих лет за спиной. “Как ныне, — подумалось ему, — как ныне…”
“Как ныне сбирается та-та-та-та, твой щит на вратах Цареграда!..” Он вдруг пожалел, что так и не узнал, что за книгу читал тот лицейский Пушкин. Да и читал ли вообще? А так захотелось бы залезть и заглянуть. Может, там и было начертано нечто, что надо было знать наперед. Он же не знал ничего. Знал только, что когда все надежды на Юденича лопнули, мать была вывезена теткой Агафьей, няниной племянницей, к ней на родину в рязанскую деревню. Может быть, от голода это ее и спасло. Дай Бог, чтоб не только от голода. О Николае же он не слышал ни слова. В Добрармии бывшие кадеты нашептывали ему, что Вяльцев мобилизован красными и под фамилией Вольфсон служит в чрезвычайке. Егор тут же лез в драку, хотя сам ни за что уже не мог поручиться.
Позже, перебравшись в Болгарию, в позолоченном Пловдиве, где он прозимовал, подрабатывая в москательной лавочке, его самого заставили поиграть фамилией. Старый армянин, работавший под цыгана и певший в трактире “Дунай”, уговорил его поработать сыном Вяльцевой, грамофонные пластинки которой с запозданием пришли на Балканы. Певицы уже лет десять как не было на свете, проверить никто не смог, да и отец, когда был жив, брюзжал, что-де ресторанная дива, действительно седьмая вода на киселе, марает порядочную фамилию… Теперь же Егор в малиновой рубахе и бархатных шароварах, подаваемый как единоутробный сын незабвенной Анастасии, стоял перед дружным октетом казачьих луженых глоток и, старательно раскрывая рот, боялся издать даже писк, дабы не испортить всей музыки. Но однажды охмелевший от поднесенной ракии Егорушка вдруг рванул “Мой костер в тумане светит” так, что петух, пущенный им, еще долго метался и бил крыльями под закопченным потолком “Дуная”. Наутро, проспавшись, он явился на исповедь к отцу Пантелеймону и умолил его отпустить ему грехи, сознавшись, что польстился на дармовые деньги, дабы скопить сумму на билет в Монте-Карло, где ждет его невеста. Выбирая ногу из одной лжи и вступая в другую, Егорушка убеждал себя, что всё едино, что для него А.П. невеста и другой не будет, а уж как Господь посмотрит на это, одному ему и известно.